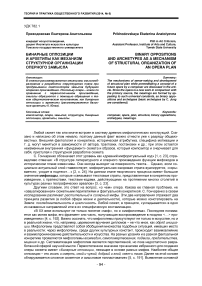Бинарные оппозиции и архетипы как механизм структурной организации оперного замысла
Автор: Приходовская Екатерина Анатольевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются механизмы смыслообразования и разработки структурного плана при продумывании композитором замысла будущего оперного произведения. Поскольку опера - новое по сравнению с первоисточником произведение, смыслы образуются с помощью обращения к таким общечеловеческим константам, как бинарные оппозиции и архетипы (рассматриваются базисные архетипы К. Юнга).
Композитор, опера, замысел, структура, бинарные оппозиции, архетипы, смыслы
Короткий адрес: https://sciup.org/14936845
IDR: 14936845 | УДК: 782.1
Текст научной статьи Бинарные оппозиции и архетипы как механизм структурной организации оперного замысла
Любой сюжет так или иначе встроен в систему древних мифологических конструкций. Сказано и написано об этом немало, поэтому данный факт можно отнести уже к разряду общеизвестных. Внешняя фактология и конкретика, историческая атрибутика, специфика мотивации и т. д. могут меняться в зависимости от автора, трактовки, постановки и др.; при этом остается неизменным внутренний «фундамент» сюжета и образов, который композитор и очерчивает для себя, приступая к структурной разработке сюжета.
С. Гончаренко обозначает этот уровень как «древний мифоритуальный код» [1, с. 23], справедливо отмечая: «В структуре литературного и оперного произведения функции мифокодов в историческом плане изменчивы. Они иногда выходят на поверхность текста… Однако, если социально-актуальный слой главенствует, мифоритуальная жанровая страта вуалируется, «скрывается», уходит в подтекст…» [2, с. 24]. На данном этапе творческого процесса имеют большое значение мифокоды , которые «связывают текстовые страты, представленные в конкретном произведении, с пратекстами, текстами-кодами, действующими на протяжении многих столетий в культурах разных географических ареалов» [3, с. 23].
Другими словами, это ответ на вопрос, «о чем» опера. Какова ее главная проблема, не «завуалированная» сюжетными перипетиями и фактуальной конкретикой. С. Гончаренко в своем исследовании различает растительный и солярный мифы. Эти два направления отражают два принципа развития (в любой сфере жизни и деятельности), которые можно констатировать на Земле: последовательность и цикличность . Любой сюжет, в принципе, «укладывается» в одно из названных направлений или в их специфическую контаминацию.
«В XX веке используют не только понятие «миф», но и «мифологема». Последняя понимается как мотив мифа, его фрагмент или часть, получающая воспроизведение в поздних <…> произведениях» [4, с. 192]. Важно осознать, что мифологемы присутствуют не только в искусстве, но и в реальной жизни, что, например, церемония вручения дипломов – не что иное, как обряд инициации. Мифологемы представляют собой обобщения множества подобных ситуаций, имевших место в реальности; через мифологемы, среди других культурных констант, происходит взаимовлияние и взаимопроникновение действительности и искусства. На разных уровнях и в разной фактуальной конкретике проявляются мифологемы возмездия, самопожертвования, подвига, предательства, мщения и др. Систематизация мифологем является перспективной, но пока недостаточно разработанной сферой научной мысли. Первостепенное значение при анализе избранного для создания оперы сюжета имеют «бинарные оппозиции, лежащие в основе разных мифов. Наиболее общие оппозиции – это жизнь и смерть, свой и чужой, добрый и злой, свет и тьма. Далее на этой основе обнаруживается сложное сюжетное и смысловое напластование» [5, с. 191]. Выявление основной бинарной оппозиции, лежащей в основе оперного сюжета – при наличии большего или меньшего разветвления сюжетных линий – определяет соотношение сил действия и контрдействия в опере, а также – вследствие этого – соотношение полярных интонационных сфер и динамику тематической работы. Необходимо отметить выявление основной бинарной оппозиции как первое проявление авторской (в данном случае композиторской) воли [6].
По идее К.Г. Юнга, понятие архетипы ( греч. arxetypos, «первообраз» ) означает первичные схемы образов, выявляющиеся в мифах и верованиях, в произведениях литературы и других видов искусства, в снах и бредовых фантазиях. Тождественные по своему характеру архетипические образы и мотивы (например, миф о потопе) обнаруживаются в не соприкасающихся друг с другом мифологиях и сферах искусства, что исключает объяснение их возникновения заимствованием. Некие общие механизмы движут творческой мыслью всего человечества: сложно объяснить появление элементов джаза в позднем творчестве Л. ван Бетховена, например (вторая часть сонаты 32). Именно общностью творческих механизмов и вообще механизмов сознания, общностью мировосприятия и типичных жизненных ситуаций может быть объяснено универсальное значение архетипов в человеческой культуре.
Базисные архетипы , выделяемые К.Г. Юнгом:
-
А. «Тень» – дочеловеческая часть психики. В мифах «тени» актуализируются в виде антигероев, трикстеров [7]. В опере это зачастую основной представитель сил контрдействия (если силы контрдействия персонифицированы): например, Мефистофель («Фауст» Гуно), Яго («Отелло» Верди), Скарпиа («Тоска» Пуччини), и др.; специфические проявления функции тени – Командор в «Дон Жуане» Моцарта, Монтероне в «Риголетто» Верди, Жермон в «Травиате» Верди, Графиня в «Пиковой даме» Чайковского, Иван Грозный в «Царской невесте» Римского-Корсакова и т. д. Функции героя-«тени», «двигателя негатива» связаны обычно с переломным моментом в сюжете (даже если данные персонажи не участвуют «напрямую» в действии). Отметим, что «тень» не всегда персонифицируется («Иван Сусанин» Глинки), не всегда совмещается с силами контрдействия, может отсутствовать вообще [8], а может проявляться в комическом варианте: в «Севильском цирюльнике», например, достаточно ясно просматривается «мефистофельская» функция, «тень» в образе дона Базилио.
Б. «Персона» – маска, инобытие истинного лика человека – его «Самости». «Самость» – центральный архетип личности, центр целостности человека, его средоточие. Эти два архетипа тесно взаимосвязаны. В опере «персона» и «самость» взаимодействуют несколько иначе, чем в психологии личности. Выражается и «персона», и «самость» через объемные сольные характеристики персонажа: 1) «персона» в номерах-«манифестах» наподобие «Credo» Яго, а также – интересное решение! – с помощью характеристики «от третьего лица» (баллада Томского «Однажды в Версале» как характеристика Графини, например); 2) «самость» с помощью внутреннего монолога наподобие монолога Бориса Годунова «Шестой уж год я царствую спокойно» или сцены и арии Виолетты «E strano…». Необычный случай совмещения функций «самости» и «персоны» представляет ария Фауста («Salut…») из оперы Гуно: это одновременно характеристика Фауста («самость») и Маргариты («персона» – характеристика «от третьего лица»). Множество примеров реализации в опере архетипов «самости» и «персоны» (преимущественно вместе) содержится в ситуациях переодевания , часто наличествующих в оперных сюжетах. Конечно, ситуации переодевания – прерогатива комических опер («Служанка-госпожа» Перголези, «Cosi fan tutte» Моцарта, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, «Летучая мышь» Штрауса и др.), однако встречаются они и в более драматических сюжетах («Фиделио» Бетховена, «Фауст» Гуно (знаменитая ария Маргариты с жемчугом) и др.), а в некоторых случаях становятся основой коллизии («Джанни Скикки» Пуччини, «Принцесса цирка» Кальмана, «Принц и нищий» Гевиксмана и др.).
-
В. «Анимус» и «Анима» – бессознательные начала противоположного пола: «Анима» – женственность в мужском, «Анимус» – мужественность в женском. «Анима» – символ бессознательного, существующего во всей хаотической целостности. «Анимус» соответственно символ упорядоченности и логического сознания. В нашем случае, данные архетипы трактуются как любовная пара главных героев. В опере-seria, например, эта пара традиционно служила центральным элементом целого («первый тенор и примадонна»). В опере-buffa сложились изначально другие традиции, основанные в некоторых случаях на иронической или пародийной трактовке данных архетипов (Серпина – Умберто в «Служанке-госпоже», обе пары в «Cosi fan tutte», например), в некоторых – на задействовании любовной линии только как повода для развертывания интриги (в той же «Cosi fan tutte», в «Свадьбе Фигаро», в «Севильском цирюльнике» и др.). Функции и степень задействованности в сюжете данной пары можно представить в виде непрерывной, практически не градуированной шкалы: природа человеческой психики (и продуцирующего сознания, и воспринимающего – композитора и слушателя) требует практически обязательное присутствие любовной линии в сюжете, в каком бы она ни предстала преломлении. В эпических, а
- преимущественно исторических сюжетах любовная пара отступает на второй план, если не нивелируется вообще («Садко», «Князь Игорь», особенно показательно в этом отношении творчество Мусоргского: известно, что дуэт Григория Отрепьева и Марины Мнишек в «Борисе Годунове» – вставная сцена; Марфа и Андрей в «Хованщине» не являются, по существу, любовной парой, так как каждый несет свои, совершенно другие функции, и т. д.).
Г. «Мудрец» (старик или старуха) – проявление духа, смысла, скрытого за хаосом жизни, символ волшебника. Надо полагать, корни архетипа «мудреца» находятся в глубине веков, в представлениях об охраняющей / карающей силе предков. Выявление «мудреца» в разных операх демонстрирует удивительную устойчивость и вместе с тем многообразие «ликов» этого архетипа. Наличие карательной функции дает совмещение «мудреца» и «тени» (Командор, Графиня и др.); к наиболее «чистым» воплощениям архетипа «мудреца» относятся образы Берендея («Снегурочка»), Старика («Алеко») и т. п. Интересно, что в опере функции «мудреца» выполняет иногда хор (что восходит к традиции хора-комментатора в древнегреческой трагедии), как в финале «Алеко», например. Специфическое, но нередкое в опере явление – расслоение функции «мудреца» на несколько персонажей (в «Хованщине» это целый комплекс: Досифей / Шакло-витый / Марфа), чаще на контрастную пару (охранительная / карательная функции): Зарастро / Царица Ночи («Волшебная флейта»), Финн / Наина («Руслан и Людмила»), Елецкий / Графиня («Пиковая дама») и др. Комическое преломление архетипа порождает образ «ведущего интригу» наподобие Альфонсо в «Cosi fan tutte» или образ «молодящегося» старика, пытающегося подменить естественный для него архетип «мудреца» архетипом «анимус» (любовника), наподобие Бартоло в «Севильском цирюльнике».
Итак, как можно увидеть на рассмотренных примерах, архетипические функции оперных персонажей могут совмещаться; не присутствовать вообще (вспомним, что К.Г. Юнг называет только базисные архетипы, полной и окончательной систематики архетипов нет); замещаться устойчивыми образами и мифологическими мотивами национальной культуры; приобретать пародийные черты и т. п.
Следует подчеркнуть необходимость осмысления композитором данных вопросов при осмыслении замысла и конструировании структуры будущего оперного целого.
Ссылки и примечания:
-
1. Гончаренко С.С. О поэтике оперы. Новосибирск, 2010. 260 с.
-
2. Там же.
-
3. Там же.
-
4. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2003. 447 с.
-
5. Там же.
-
6. Следует оговорить необязательность присутствия в сюжете бинарных оппозиций как основы конфликта – хотя, как правило, они есть. Например, в опере П. Чайковского «Иоланта» не найдем сил действия и контрдействия; здесь задействуются уже более сложные механизмы организации сюжета. В любом случае, определение основной бинарной оппозиции или ее отсутствие должно быть сознательным и обоснованным решением автора.
-
7. Трикстер (англ. trickster – обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии – божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения. В художественных произведениях трикстеры часто выступают в роли антигероев.
-
8. В античной трагедии, например, силы контрдействия связаны обычно с идеей Рока, Судьбы, а эта идея редко персонифицируется.