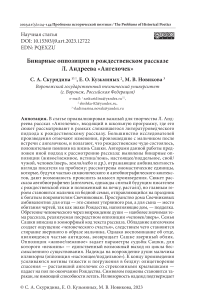Бинарные оппозиции в рождественском рассказе Л. Андреева «Ангелочек»
Автор: Скуридина С.А., Кузьминых Е.О., Новикова М.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован важный для творчества Л. Андреева рассказ «Ангелочек», входящий в школьную программу, где его сюжет рассматривают в рамках сложившегося литературоведческого подхода к рождественскому рассказу. Большинство исследователей произведения отмечают изменения, произошедшие с мальчиком после встречи с ангелочком, и полагают, что рождественское чудо состоялось, положительно повлияв на жизнь Сашки. Авторами данной работы предложен иной подход к рассмотрению рассказа: выявлены бинарные оппозиции (живое/неживое, истина/ложь, настоящее/поддельное, свой/чужой, человек/зверь, земля/небо и др.), отражающие амбивалентность взгляда писателя на проблему; рассмотрены ономастические единицы, которые, будучи частью символического и автобиографического контекстов, дают возможность прояснить замысел произведения. Сюжет рассказа автобиографичен (ангелочек, однажды снятый будущим писателем с рождественской елки и положенный на печку, растаял), но главным героем становится мальчик из бедной семьи, отправляющийся на праздник к богатым покровителям Свечниковым. Пространство дома Свечниковых амбивалентно: для отца - это символ утерянного рая, а для сына - место обитания чертей, так как знаки Рождества, наполняющие дом, - подделка. Обретение человеческого через возрождение души - наиболее значимая тема рассказа, реализуемая посредством оппозиции « человек/зверь ». Семья Сашки вписана в зооморфный код текста рассказа. Обладание ангелочком создает ощущение «человеческого счастья», следствием чего становится стирание звериного в образе мальчика. Однако воспоминание об отце, являющемся частью антидома, возвращает Сашке звериный облик. Оппозиция « живое/неживое » задает параметры судьбы Сашки, для которого «нежизнь» - единственный возможный выход из цикла бессмысленного существования. Надежда на возрождение души мальчика иллюзорна (оппозиция « настоящее/поддельное » ). К концу произведения усиливаются мотивы тяжести и погружения в бездну: олицетворение спасения - растаявший ангелочек со стрекозиными крылышками - падает на пол по окончании Рождества. Символом подмены становится таракан, не имеющий способности летать. Иллюзорность надежд подтверждает хронотоп рассказа. Рождество разрывает цикл существования и вводит мальчика в круг вечности, но бой часов возвращает героев на землю и ускоряет их биологическое время. Образ «зазябшего водовоза», появляющийся в финале рассказа, - символ возвращения цикличности в жизнь ребенка и знак того, что возрождение не состоялось.
Л. а. андреев, ангелочек, рождественский рассказ, бинарные оппозиции, зооморфизм, ономастикон, хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/147241438
IDR: 147241438 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12722
Текст научной статьи Бинарные оппозиции в рождественском рассказе Л. Андреева «Ангелочек»
Р ассказ Л. Андреева «Ангелочек», написанный в 1899 г., является автобиографичным, о чем свидетельствуют воспоминания 3. Н. Пацковской, родственницы писателя, которые приводит Н. Н. Фатов:
«Елка эта была у нас, и на верху был восковой ангелочек; Леонид все на него смотрел, потом взял его себе (моя мать ему его подарила), и когда лег спать, то положил его на горячую лежанку, и он, конечно, растаял. Было ему в это время лет 8. Но в рассказе кое-что переиначено. Там выводится мальчик из бедной семьи. Леониду же отец и мать делали обыкновенно свою роскошную елку» 1 .
Исследователями поднимаются вопросы соответствия рассказа «Ангелочек» жанру рождественского рассказа ([Нестерова], [Барашков, Желобцова], [Кихней, Ларина] и др.), рассматриваются особенности образов персонажей ([Борзова], [Голованова], [Садовников] и др.), выявляются философские искания героев ([Ильин], [Маркова]). В настоящее время рассказ Л. Андреева входит в школьную программу, в связи с чем его проблематика обсуждается не только в научных, но и в методических статьях ([Трунцева, Евсякова], [Шарохина] и др.).
Предваряя анализ произведения Л. Андреева, укажем на особенности жанра рождественского рассказа, описанные в работе Т. Н. Козиной: « идейное содержание — преображение человека, обращение его к Богу, "светлое рождественское чудо" [Есаулов: 52]; цель произведения — создать праздничное настроение, дать нравственный урок; истоки жанра — европейский рождественский рассказ; время действия — Рождественский Сочельник, Рождество; непременные атрибуты — ель, звезда, ясли, свечи, подарки; принципы развития сюжета — устремленность к чудесному событию (неожиданная помощь, обновление жизни, любовь действенная, традиции рождественской благотворительности); исторические персонажи — Богородица, Иосиф, Младенец, волхвы, пастухи, царь Ирод; традиционные герои — сиротка, семья; поэтика — молитвы, обращения к Богу, Богородице, святым; введение малых фольклорных форм — христославье» (см.: [Козина: 51]). Однако на рубеже веков происходят семантические сдвиги в рождественских рассказах, причина которых не в «усталости» жанра [Душечкина, Баран: 25], а «в духовном состоянии общества» [Козина: 11].
Семантическое пространство андреевского «Ангелочка» структурировано на основе реализации мифопоэтических бинарных оппозиций: живое-неживое , истина-ложь , настоящее-поддельное , свой-чужой , человек-зверь , земля-небо , день-ночь , верх-низ и др.
Одной из первых проявляется в рассказе оппозиция «живое-неживое». В начале рассказа Сашке «хотелось перестать делать то, что называется жизнью»2, но «он не знал всех способов, какими люди перестают жить» (157). После получения героем ангелочка и возвращения от Свечниковых Л. Андреев, используя причастие настоящего времени начинающего, вселяет в читателя надежду на изменения в жизни Сашки («и рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить» (166)). Однако в финале рассказа описывается «смелое личико человека, который еще только начинал жить» (168) — здесь глагол несовершенного вида в форме прошедшего времени отсылает к началу рассказа, где используются глаголы в данной форме, то есть исчезает перспектива новой жизни, происходит возвращение к начальной точке, в которой Сашка тяготится своей жизнью. Ангелочек — это «то, чего не хватало в картине жизни [героя] и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые» (162). Живые люди в рассказе предстают мертвыми, а восковый ангелочек — живым: «весь он казался живым и готовым улететь» (162). В образе ангелочка эксплицируются черты маленького ребенка: «Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли» (162).
Еще одна оппозиция в основе текста андреевского рассказа — «человек-животное». При описании поступков Сашки Л. Андреев активно подключает зооморфные характеристики: надпись «Проси прощенья, щенок» (157) значится под карикатурой, на которой изображена сцена его наказания матерью, встречающей сына фразой «Где полуночничаешь, щенок?» (158); когда «мать стала бить его, он укусил ее за палец» (157); периодически «углы губ его подергивались от желания оскалить зубы» (159); в ожидании ангелочка, снимаемого с елки, «он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими» (164). В эпизоде с ружьем и маленьким Колей в зооморфный код текста рассказа вписывает героя и сам автор, называя его волчонком: «Волчонок взвел пружину…» (160), — как будто уточняет, что за щенок Сашка — детеныш домашнего животного, собаки, или дикой волчицы. В гимназии имя Сашки заменяется прозвищем: автор отмечает, что за привычку скалить зубы его звали волчонком (159). Перочинный нож, которым владеет Сашка, связан с волчьей символикой, так как ассоциируется с острыми зубами волка (см.: [Гура: 140–141]). Интересно, что события рассказа происходят на Рождество, а это, по народным поверьям, время волчьего разгула (см.: [Гура: 132]), завершающегося после Крещения.
Получив ангелочка, Сашка преображается, на минуту возникает «загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка» (165), однако тело Сашки съеживается: «съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера» (165). За несколько абзацев до введения этого сравнения автором описываются руки Сашки в момент получения ангелочка — они подобны лапам зверя из семейства кошачьих: «Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху» (164).
Интересно, что зооморфные черты отца дважды, с разницей в одно предложение, вводятся видовой парой глаголов «ежиться-поежиться»: «поежился от холода отец», «отец сидел молча и ежился» (158) — и причастием «съежившийся»: «съежившийся от постоянного озноба» (159). Щенок-волчонок-еж-пантера — животные с острыми зубами или острыми иглами. Щенок — детеныш животных из отряда псовых, в том числе и волков. В русской культуре символика волка неоднозначна, тем не менее, начиная с колыбельных, у человека формируется образ волка-злодея: «Придет серенький волчок и ухватит (как вариант утащит , укусит ) за бочок». Архетипичными являются реализуемые в рассказе представления о волке как о диком и прожорливом животном: накидываясь на людей, кусаясь, Сашка боится только одного — остаться голодным, если мать перестанет его кормить (157). Как известно, для отпугивания волка используется огонь, в контексте чего ярко горящая множеством свечей елка кажется Сашке враждебной ( «елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной» (162) ) , поэтому он обращает внимание на ту часть рождественского дерева, которая расположена в тени. После эпизода, в котором описывается получение Сашкой ангелочка, зооморфные сравнения не используются (пока Сашка не вспоминает об отце, мысленно переносясь в пространство их жилища), что, безусловно, свидетельствует о начавшемся процессе преображения «смятенной души».
Ангелочек скрывается на изнаночной стороне елки. Противопоставление «лицо-изнанка» включается в оппозицию «свой-чужой», являющуюся глубинным мировоззренческим маркером социальных отношений. В рамках данной оппозиции организуется ономастикон рассказа. Неблагозвучное имя матери Феоктиста Петровна диссонирует с именами сына Сашка и мужа Иван Саввич. Неслучайно Л. Андреев вводит двухчастный антропоним Феоктиста Петровна и четырежды его повторяет в неизменном виде: Феоктиста от Феоктист* рус. из греч. theoktistos ‘созданный богами’, Петровна от Петр из греч. Petros ‘камень’3. Камень, созданный богами, — идол, требующий поклонения, в связи с чем предсказуемо ее желание поставить Сашку на колени, что и повторяется изо дня в день. Данный факт позволяет Л. Андрееву ввести в текст мифологический хронотоп, одной из особенностей которого является цикличность происходящего. Однако накануне Рождества цикличный круг разрывается, выводя героя в иную действительность. Имя матери Сашки, соотносимое с мертвым камнем, вписывается в оппозицию «живой-мертвый», чему способствуют глагольные словосочетания с деструктивной семантикой, которыми сопровождается появление Феоктисты Петровны в рассказе: «била» скалкой (157), «замахнулась кулаком, но не ударила» (158), «плюнула и крикнула» (158), «ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга» (159), «изобью я тебя, ох, как изобью» (159) — в связи с чем закономерным становится вопрос Сашки, обращенный к способной только к разрушению матери: «Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!» (160).
Для отца Сашки писатель выбирает двухчастный антропоним, созданный по традиционной русской модели имя + отчество, Иван Саввич , отсылающий нас к образу воронежского поэта Ивана Саввича Никитина (1824–1861). Полагаем, что это не совпадение, а намеренное введение Л. Андреевым прецедентного имени, что подтверждается некоторыми фактами. Л. Андреев, как и И. С. Никитин — уроженец чернозёмного края. Можно предположить, что в орловской гимназии, где в 1882–1891 гг. учился Леонид Андреев и директором которой был известный филолог И. М. Белоруссов, издававший свои труды в воронеж ских издатель ствах, вряд ли обходили стороной творчество
И. С. Никитина. Интересен факт о выборе писателем псевдонима, о котором вспоминал его современник Николай Телешов: «"Андреев" — что такое Андреев?.. Даже запомнить нельзя. Совершенно безразличное имя, ничего не выражающее. "Л. Андреев" — вот так автор! — Но ведь есть же писатель Никитин, — возражали ему. — Все его знают, ни с кем не смешивают. Почему не быть теперь писателю Андрееву?»4 Отец И. С. Никитина являлся владельцем небольшого свечного завода и свечной лавки, что проецируется на текст андреевского рассказа, в котором ангелочек, изготовленный из воска, принадлежит Свечниковым . Отец главного героя, как и реальный Иван Саввич Никитин, болен туберкулезом. У обоих в жизни было большое чувство: И. С. Никитин был влюблен в дочь генерала Наталью Антоновну Матвееву, с которой познакомился в 1859 г. и вел переписку; когда в 1861 г. поэт заболел, Н. А. Матвеева хотела ухаживать за ним, но И. С. Никитин отказался, понимая, что визиты незамужней женщины из другого сословия могут навредить ее репутации. Мотив пьянства в рассказе, на наш взгляд, связан как с биографией самого Л. Андреева, так и с биографией И. С. Никитина: отец последнего начал пить, когда лишился свечного завода (отец Сашки запивает, лишившись расположения Свечниковых ).
Имя главного героя Александр, употребляемое отцом только в пейоративной форме Сашка, восходит к греч. Alexandros: alexo ‘защищать’ + aner, andros ‘муж(чина)’5. Однако в рассказе он не только не защищает, но и нападает на других. Видимо, в связи с этим происходит замена личного имени, данного при крещении, на прозвища щенок и волчонок, в основе которых лежат особенности поведения героя. Диминутив Саша (160) возникает в рассказе лишь однажды — в обращении к нему Софьи Дмитриевны Свечниковой, в дом которой на Рождество Сашка идти не хочет, так как обитатели дома, по его мнению, — «черти» и «антипы толсторожие» (158), что, впрочем, одно и то же: антипка, или антип, — это одно из народных названий черта, восходящее к апеллятиву антихрист и возникшее в результате табуирования лексемы черт (см.: [Шарапова: 31]). Однако, придя на елку, Сашка попадает в дом, наполненный символами Рождества.
Первоначально Сашка встречает детей, одного из которых зовут Коля. С одной стороны, Коля — это образ ангела («белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи», «голубые удивленные глаза», «пухлые губы», «длинные ресницы» (160)), с другой, имя Коля — диминутивная форма имени Николай, прочно связанного в христианском сознании с образом Николая Чудотворца, а с Николы Зимнего начиналась череда предрождественских забот. Празднование Рождества у Свечниковых, фамилия которых, безусловно, тоже значима (рождественская свеча, озаряющая путь человека, связана с образом Христа), начинается, когда приходит старшая из сестер Свечниковых, с ореолом седых волос, и напоминает Сашке свое имя: «И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной» (163). Дополняет транслируемый именем образ Богородицы ребенок — «маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками» (163). Неслучайно до появления Марьи Дмитриевны Сашку-хищника лысый господин, гость Свечниковых, спрашивает: «Что же, братец, в пастухи хочешь?» (161). Казалось бы, Л. Андреев изображает пространство, в котором может произойти чудо, в противоположность тому, где обитает Сашка с матерью-ведьмой и больным отцом, где он просыпается по утрам и умывается водой со льдинками, «в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде» (157). Поэтому, забившись за рояль, Сашка «думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти» (162). Однако вся рождественская атрибутика представляется Л. Андреевым в переосмысленном виде: ребенок, повисший на руке Марьи Дмитриевны, далеко не младенец и не мальчик; сама Марья Дмитриевна не Дева Мария, поэтому носит имя в крестьянской огласовке, а с ее отчеством вводится в рассказ мифологема Мать-сыра земля (имя Дмитрий восходит к греч. Demetrios, относящийся к Деметре, богине земледелия и плодородия6); Марья Дмитриевна лжет Сашке, что игрушка обещана Коле; мальчик Коля транслирует разговоры взрослых, из которых понятно, что Свечниковы нарушают завет Христа «Не судите, да не судимы будете», в связи с чем предсказуемо, что бывшая возлюбленная Ивана Саввича называет Сашку «дурной кровью» (161); ангелочек висит на изнаночной стороне елки и т. д. Если посмотреть на высказывания всей семьи Свечниковых о мальчике, то обнаруживаются исключительно негативные коннотации: «не-благодалный мальчик» (160), «Злой… Злой мальчик» (160), «нехорошо быть таким невежливым» (160), «это невежливо» (163), «Ах, какой ты глупый!» (164). Полагаем, что характеристика самой елки и всего, что на ней происходит, отражает нрав всей семьи Свечниковых, демонстрируя, что эти якобы добрые и милосердные люди, как кажется отцу Сашки, совершенно другие, не напрасно ассоциирующиеся в Сашкином сознании с чертями.
Открытие дверей в комнату, где стоит елка, вызывает восторг у детей, в отличие от Сашки, который «был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце» (162): «изъязвлять, изъязвить — наносить много язвъ, изранивать»7. Л. Андреев представляет елку глазами Сашки: «Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной» (162). Негативные эмоции вызывают воспоминания о перочинном ножичке, который сточился: «завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется» (162). И в этот момент происходит чудо — в картине Сашкиного мира, в котором окружающие люди «точно неживые», появляется ангелочек, который «казался живым» (162). Сашка испытывает чувство умиления и благоговения, в связи с чем в его речи четырежды повторяется лексема милый (163). Примечательно, что в речи Сашки используется только диминутив ангелочек и лексема штука (163) в значении «искусно, хитро, мудрено сдѣланная вещь»8, тогда как хозяйка дома ни разу не употребляет лексему ангелочек, а называет ангелочка «игрушкой», использует описательный оборот («я дам тебе, что ты просишь»), обозначает как «красивую вещь», заменяет слово указательным местоимением «это» («А это я обещала Коле отдать») (164).
Как только ангелочек оказывается у Сашки в руках, происходит чудо — превращение Сашки-волчонка в человека в результате обретения «человеческого счастья» (165). Но ощущение счастья длится только миг — вспомнив об отце, Сашка съеживается, как пантера (память об отце воскрешает в Сашке звериную телесность), и уходит из дома Свечниковых. Отметим, что, отправляя сына на елку, отец озвучивает пожелание: «Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь» (159). И Сашка, действительно, выполняет заказ отца, принося в дом ангелочка, а с ним что-то такое, что трудно обозначить словами, поэтому вызывает вопрос отца: «Зачем все это?» (167). Вводя в текст двусмысленную фразу: «И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан» (166), — Л. Андреев объединяет в восприятии Ивана Саввича пространство дома Свечниковых и рая и отмечает, что «ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь» (166). В данном контексте возникает оппозиция «жизнь-смерть»: зарождение Сашкиной жизни приводит к окончанию счастливой жизни отца, к его изгнанию из рая и дальнейшему падению, о чем свидетельствуют глаголы и причастие несовершенного вида, транслирующие цикличность событий в жизни отца: опустился , поднимали , поднимаемого (159, 166).
На протяжении всего рассказа автор активирует оппозицию «правда-ложь» («настоящее-поддельное»). Существование Сашки, «то, что называется жизнью» (157), — это подобие, подделка, именно поэтому все, происходящее с ним, он заносит в черновик и изображает в виде карикатур. Встреча с ангелочком становится способом приобщиться к жизни, заменить искусственное на истинное, подтверждением чему является упоминание, что личико ангелочка одухотворено «рукой неведомого художника» (165). Жизнь Сашки — это замкнутый круг, наполненный однообразными неприятными действиями: умывание холодной водой, хождение в гимназию, где постоянно ругают, боль во всем теле после того, как мать ставит его на колени. Такое существование воспринимается мальчиком, как бесконечное: «пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять на коленках» (157). Шансом изменить судьбу становится Рождество, первое упоминание о котором в рассказе вводит конкретную временнỳю точку отсчета в жизни мальчика: «перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии», он не позволил матери бить его и «укусил ее за палец», «бросил умываться по утрам» и почувствовал свободу (157).
О том, что Рождество должно изменить Сашкину жизнь, сделав ее течение ощутимым, настоящим, свидетельствует меняющееся восприятие времени — оно становится более конкретным: сначала появляется указание на день недели — «пятница, накануне Рождества» (157), затем упоминается пограничное время суток между буднями и праздником — «полночь» (158). Время ускоряется, и об этом свидетельствует характеристика действия матери — «браниться было некогда » (158). Попав в дом к Свечниковым, Сашка, в месте обитания которого с матерью и отцом Рождество невозможно, со своим восприятием времени не вписывается в вечное время Рождества: дети находятся в ожидании чуда, знают, что оно случится, поэтому с восторгом смотрят на елку, а он «угрюм и печален», поскольку понимает, что впереди у него пустота: «завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется» (162).
Ангелочек становится тем, что заполнит пустоту: «он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто , точно окружающие люди неживые» (162). Встреча с ангелочком наполняет жизнь Сашки, придает ей ценность, о чем свидетельствуют такие характеристики времени, как «мгновенно», «короткий момент», «следующую минуту» (162, 165). Обладание ангелочком позволяет, выскочив из круга, приобщиться к вечности: «он всегда знал его и всегда любил» (162).
Получив ангелочка, становящегося для него символом Рождества и будущего спасения, Сашка приносит его в дом к своему отцу, для которого спасение уже невозможно, свидетельством чего становится разница в восприятии игрушки: для «погибшего» отца — она напоминание о мире, «где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан», поскольку потерял любовь, «сохранив ненужную жизнь», а для мальчика — путь в вечность, так как «исчезло настоящее и будущее», и надежда «тоскующей о Боге души» (166).
Вызванная любовью к отцу ложь мальчика о том, что ангелочка дала некогда любимая женщина, приводит к тому, что отец еще сильнее осознает трагедию своего падения и потерянной жизни. Вечность оказывается недостижима, знаком чего становится внезапно возникающий бой часов, символизирующих конечное, линейное время: «часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три» (167). Часы возвращают героев на землю, а их биологическое время начинает ускоряться: глядя на плачущего отца, Сашка впервые видит, что тот «старый»; при этом, говоря ему: «ну совсем как маленький» (167), — мальчик как будто стареет и сам.
Помимо изменения ощущения времени, меняется и ощущение пространства, которое в рассказе мифологизировано. Верх пространственной вертикали — это рай, из которого «изгнан» отец, и ангелочек, который «спустился с неба» (166). В нем постоянно подчеркивается неземное: благодаря крылышкам он невесом и находится в состоянии полета, «далек и непохож на все, что его здесь окружало» (163), дает чувство «неземной радости» и ощущение того, что случится то, что «никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле» (165), его «невозможно» оставить на земле (165).
К срединному миру относится дом Свечниковых, символом которого становится рождественская ель со множеством свечей и дети, похожие на ангелов. В этом доме к Сашке приходит чувство Рождества, здесь живет женщина, которую любил отец, но при этом его нельзя ассоциировать с раем, поскольку люди, населяющие дом, не имеют души. Неслучайно хозяйка дома говорит «равнодушно» (163), тогда как Сашка обладает
«непокорной и смелой душой» (157). Лексема душа многократно используется при описании Сашки и его отца — в жилище, которое мальчик не воспринимает как дом, даже печка имеет от душ ину (167).
В рассказе реализуется оппозиция «душа-тело»: обладающие звериной телесностью Сашка с «впалой грудью» (165) и его «узкогрудый» (158) отец имеют/имели душу и сердце, в отличие от матери, обладающей крепким телом — писателем настойчиво подчеркивается ее телесность: «толстая и низенькая женщина» (157), «белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота» (158), «здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели» (159).
Жилище, в котором обитает семья Сашки, обладает чертами антидома. Он низкий, плохо освещен, несмотря на горящую печку и горячие полы, в нем холодно всем, кроме матери, он грязный, пахнущий чадом и водкой (с домом Свечниковых связан «неуловимый аромат» (166), который примешивался к запаху воскового ангелочка). Обитатели дома Сашки находятся в нижней точке пространства, обозначенной в рассказе как бездна: отец «опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок» (159), мать — тоже опустившаяся женщина, вечно кричащая и бранящаяся, грязная и пахнущая водкой. Близок к падению и Сашка, поскольку выходом из его жизни может стать самоубийство. Если самоубийство произойдет, то у Сашкиной души, а это то, что не дает ему мириться со злом, окружающим его, не будет шанса на спасение. Падение в бездну окажется неизбежным, а верх пространственной вертикали — рай — недоступным. Кажется, что обретение ангелочка может удержать мальчика от падения в пропасть: когда Марья Дмитриевна, отчество которой указывает на место расположения дома Свечниковых на земле (см. выше), отказывается сразу же отдать ему игрушку, мальчик понимает, что «падает в пропасть» (163), чувство к ангелочку уничтожает «бездонную пропасть» (167) между отцом и сыном. Это ощущение оказывается иллюзией. После того, как бой часов возвращает отца и сына «на землю», скорость падения увеличивается. Символичным оказывается единственный виденный в жизни Сашкой сон, в котором он лазил за голубями и сорвался (167). Учитывая, что в христианстве голубь является символом души и Святого Духа, сон мальчика можно рассматривать как знак невозможности избежать падения в бездну. Повесив ангелочка на отдушину печки, Сашка собирался любоваться им, но «заснул с такой быстротой, точно по шел ко дну глубокой и быстрой реки» (168).
В мире, где живет Сашка, восхождение оказывается невозможным. Рождественская ночь, стирающая границы пространства и времени, заканчивается. Ангелочек, повешенный у печки, повторяет рождественский путь Сашки и предсказывает дальнейшее развитие событий: «встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты» (168). Ангелочек тает, в момент разрушения становясь органичной частью Сашкиного дома, что маркируется изменением запаха, исходящего от него. К нему уже не примешивается аромат женщины, которую любил отец. Он утрачивает характеристики «легкий» (неуловимый) и «приятный» и, смешавшись с запахом керосина, воспринимается, как «тяжелый запах топленого воска» (168). Тяжесть, как и неприятный запах, являются знаком Сашкиного дома-бездны: у отца тяжелое (158) дыхание, у матери тяжелые (159) кулаки; после того, как часы начинают бить, рука отца, лежащая на плече сына, становится тяжелой (167). По стрекозиным нежным крылышкам, к которым «было бы безумной жестокостью прикоснуться» (163), пробегает таракан-прусак (168) — жесткокрылые насекомое, утратившее способность летать и являющееся символом повседневного быта. Время снова становится цикличным: появляется водовоз — значит, снова Сашке придется умываться водой, «в которой плавают тоненькие пластинки льда» (157).
Как видим, небольшой рассказ Л. Андреева переполнен смыслами, прочитываемыми на уровне мифопоэтических оппозиций, в которые встраивается рождественский миф. Текст рассказа создавался довольно долго, так как писателю важно было передать то, что верно подмечено его современником А. Блоком, — утрату «чувства домашнего очага»9, которое особенно ощущалось во время Рождества, погружение людей в затхлый мещанский быт, в «паучье жилье»10, описанное в произведениях Ф. М. Достоевского. Поэтому на елке у Свечниковых «было положительно нехорошо. Была мисс, которая учила детей лицемерию, была красивая изолгавшаяся дама и бессмысленный лысый господин; словом, все было так, как водится во многих порядочных семьях, — просто, мирно и скверно»11. Таким образом, один из главных вопросов, поставленных Л. Андреевым в рассказе «Ангелочек», — возможно ли чудо возрождения души через обретение человеческого счастья в современной писателю действительности? — имеет отрицательный ответ. Ребенок, традиционно являющийся символом будущего, в рассказе Л. Андреева этого будущего лишен, так как обретение Рождества Сашкой так и не состоялось. Взаимное отчуждение и озверение людей, утрата внутрисемейных отношений и ощущения домашнего очага, нивелирование связи между ребенком и матерью, подмена истинных чувств ложными представлениями, отсутствие надежд на возрождение и, как следствие, путь человека вниз, в бездну — основные характеристики мира, описанного Л. Андреевым в преддверии XX в. По мнению Т. Н. Козиной, «нота безмерного отчаянья звучит в рассказе "Ангелочек" Л. Н. Андреева, автор выражает в нем свой страх перед безумием мира» [Козина: 12]. В своей статье «Безвременье» А. Блок говорит о том, что красота рождественского праздника исчезает, так как в семьях господствуют скука и пошлость: «Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера — все заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь»12 (см. также: [Козина: 12]).
Анализ выявленных оппозиций, создающих мифопоэтическую основу рассказа, и выявление дополнительных сюжетообразующих смыслов в значении антропонимов, используемых в произведении, позволяют по-новому трактовать смысл текста. «Ангелочек», имея традиционную форму рождественского рассказа: действие происходит в канун Рождества; в мальчике, попавшем в тяжелую жизненную ситуацию, через обладание ангелочком происходит духовное возрождение, которое он разделяет со своим отцом, и т. д. — по сути является пародией на него. Можно говорить о том, что перед нами сюжет об антиРождестве: Рождество, ангелочек, как символ рождественского чуда, возрождение души мальчика через покаяние, милосердие и сострадание к отцу и т. д. — все это оказывается иллюзией: ангелочек — не настоящий ангел, а всего лишь игрушка, дом Свечниковых — не место обитания девы Марии, а пространство бездушных и равнодушных людей, жилище мальчика — аналог бездны, и, поскольку ей противопоставлен иллюзорный рай и игрушечный ангел, погружение в нее неизбежно, святость Рождества перекрывается ужасами человеческого существования.
Список литературы Бинарные оппозиции в рождественском рассказе Л. Андреева «Ангелочек»
- Барашкова С. Н., Желобцова С. Ф. Традиции «рождественской истории» в семантике сюжета рассказа Леонида Андреева «Ангелочек» // Казанская наука. 2021. № 1. С. 7–9 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45156140_75740487.pdf (11.06.2023). EDN: GWCNSO
- Борзова Н. А. Образы детей в произведениях Леонида Андреева // Известия Самар. науч. центра РАН. 2015. Т. 17. № 1–5. С. 1130–1132 [Электронный ресурс]. URL: http://ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2015/2015_1_1130_1132.pdf (11.06.2023). EDN: VUTCDT
- Голованова Н. Ю. Репрезентация образа главного героя в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек» // Запад и Восток в диалоге культур: материалы ХI Междунар. науч.-практ. и Всерос. научно-просветит. конф. c междунар. участием / под общ. ред. В. Б. Царьковой, Е. А. Поповой, А. А. Люлюшина, Е. Г. Труновой. Липецк: Липецк. гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. С. 143–147 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49877877_57063729.pdf (11.06.2023). EDN: ILPHCK
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
- Душечкина Е. В., Баран Х. Настали вечера народного веселья… // Чудо рождественской ночи: святочные рассказы. СПб.: Худож. лит-ра, 1993. С. 3–32.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Ильин В. В. К юбилею писателя: философские уроки Леонида Андреева // Российский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 2. С. 69-84 [Электронный ресурс]. URL: http://libartrus.com/arch/files/2021/2/01_210572_Ilin_v3_69-84.pdf (11.06.2023). DOI: 10.15643/libartrus-2021.2.1. EDN: KTYYHL
- Кихней Л. Г., Ларина Н. А. Модель мира в рамках жанра святочного рассказа (на примере рассказа Леонида Андреева «Ангелочек» и Валерия Брюсова «Дитя и безумец») // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 4а. С. 282–291 [Электронный ресурс]. URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-4/26-kikhnei-larina.pdf (11.06.2023). EDN: XWACYP
- Козина Т. Н. Модификация рождественского архетипа. Тамбов: Консалтинговая комп. Юком, 2020. 100 с. [Электронный ресурс]. URL: https://ukonf.com/doc/mon.2020.03.01.pdf (11.06.2023). EDN: LBXVMA
- Маркова Е. Перерождение Сашки (по рассказу Л. Андреева «Ангелочек») // Духовно-нравственное воспитание. 2016. № 4. С. 49–53. EDN: WZQYCZ
- Нестерова Т. А. Каноны рождественской литературы в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек» // II Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество, личность»: межвуз. сб. науч.-методич. cт. / под ред. Е. В. Ракитиной. Ишим: Изд-во ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016. С. 172–175 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25746824_12096688.pdf (11.06.2023). EDN: VRKWEP
- Садовников А. Г. Образная символика «пасхально-святочно-рождественских» текстов Л. Андреева // Вестник Нижегород. гос. лингв. ун-та им. Н. А. Добролюбова. 2016. № 33. С. 120–127 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25895987_16977364.pdf (11.06.2023). EDN: VURSSZ
- Трунцева Т. Н., Евсякова И. В. Лингвоконцептологический урок как форма развития индивидуальной картины мира школьника (в контексте изучения рассказа Л. Андреева «Ангелочек») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (77). Ч. 2. С. 209–213 [Электронный ресурс]. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20172661/fulltext (11.06.2023). EDN: ZMWOFV
- Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М.: АСТ, 2001. 624 с.
- Шарохина Н. Н. Рассказ Леонида Андреева «Ангелочек». VIII класс // Литература в школе. 2011. № 7. С. 26–30 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16444328_25335214.pdf (11.06.2023). EDN: NVWDHN