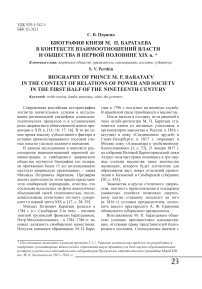Биография князя М. П. Баратаева в контексте взаимоотношений власти и общества в первой половине XIX в
Автор: Першин Сергей Викторович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
В контексте исследования взаимоотношений коронной администрации и привилегированного сословия в первой половине XIX в. в статье анализируется биография М. П. Баратаева, на протяжении двух десятилетий исполнявшего обязанности симбирского губернского предводителя дворянства.
Дворянское общество, предводитель, самодержавие, сословие, губернатор
Короткий адрес: https://sciup.org/14720881
IDR: 14720881 | УДК: 929.5:342.5
Текст научной статьи Биография князя М. П. Баратаева в контексте взаимоотношений власти и общества в первой половине XIX в
Современная российская историография достигла значительных успехов в исследовании региональной специфики социальнополитических процессов и в установлении роли дворянства в общественной жизни провинции в XIX в. [14; 16; 17; 16]. В то же самое время анализу субъективного фактора в истории привилегированного сословия ученые пока не уделили должного внимания.
В данном исследовании в контексте рассмотрения взаимоотношений коронной администрации и симбирского дворянского общества изучается биография его лидера, на протяжении более 15 лет возглавлявшего местную дворянскую организацию, – князя Михаила Петровича Баратаева. Предваряя анализ деятельности этого яркого представителя симбирской корпорации, отметим, что последняя выделялась на фоне аналогичных объединений своей сплоченностью, последовательными попытками отстоять суверенитет в первой трети XIX в. [17, с. 38–39].
Михаил Петрович Баратаев родился в 1784 г. в г. Симбирске. Его отец – потомок знатной грузинской фамилии Бараташвили, Петр Мельхиседекович, – в 1784–1786 гг. занимал должность симбирского наместника. Получив домашнее образование, М. П. Бара- таев в 1796 г. поступил на военную службу. В армейской среде приобщился к масонству.
После выхода в отставку из-за ранений в чине штабс-ротмистра М. П. Баратаев становится одним из активных участников и организаторов масонства в России: в 1816 г. вступает в ложу «Соединенных друзей» в Санкт-Петербурге; в 1817 г. открывает в Москве ложу «Александра к тройственному благословению» [1, с. 53]; 21 января 1817 г. на собрании Великой Деректориальной ложи Астреи получает право посвящать в три первые степени масонства такое количество желающих, которого будет достаточно для образования двух новых отделений организации в Казанской и Симбирской губерниях [20, с. 424].
Знакомства в кругах столичного дворянства, знатность происхождения и поддержка уважаемых семейств позволяли энергичному князю, ставшему незадолго до того (в 1816 г.) уездным предводителем, исполнять вместо престарелого А. Ф. Ермолова обязанности губернского предводителя.
Возглавляемое М. П. Баратаевым общество успешно противостояло администрации, отстаивая права представителей благородного сословия. Столкнувшись вначале с

Рис. 1. М. П. Баратаев (1784–1856)
непониманием, а затем и с явно враждебным настроем благородного общества, М. Л. Магницкий прослужил всего восемь месяцев на посту симбирского губернатора и попросил отставки.
Летом 1820 г. Правительствующий сенат рассматривал жалобу симбирцев, касающуюся законности поручения губернского правления одному из местных дворян надзирать за Тальской бумажной фабрикой. По инициативе приступившего в 1820 г. к исполнению предводительских обязанностей М. П. Баратаева в Симбирске был основан дом трудолюбия для бедных девиц дворянского происхождения [19, с. 227].
После публикации 20 августа 1822 г. Высочайшего рескрипта о запрещении в России всех масонских структур М. П. Баратаев сосредоточивает собственную деятельность на легальных организациях. Показателем признания заслуг предводителя являлось то, что во время посещения в 1824 г. Симбирской губернии Александром I чести сопровождать императора был удостоен именно князь Баратаев (пожалованный в том же году за преданность монарху орденом Святой Анны II степени) [5, л. 1–1 об.; 19, с. 228].
Однако в скором времени столичные связи (в первую очередь знакомство со многими масонами) чуть было не сказались крайне негативно на судьбе лидера симбирских дворян. После подавления восстания 14 декабря 1825 г. с целью выявления заговорщиков начались аресты всех, кто хоть каким-то образом мог быть причастен к антиправительственной деятельности.
Зимой 1826 г. в поданной на имя нового императора записке коллежского асессора Е. С. Рейнеке (в прошлом – секретаря Великой ложи «Астреи», филиалом которой являлся симбирский «Ключ к добродетели») было доложено о том, что «в 1819 году Баратаев предлагал ему вступить в орден карбонаров, называя себя великим магистром оного» [11, с. 155, 221]. Предводителя симбирских дворян доставили в Санкт-Петербург, где содержали три недели в здании Главного штаба [11, с. 221]. Некоторое время, кстати, вместе с ним был заключен А. С. Грибоедов.
Проходивший по тому же делу Д. И. Завалишин вспоминал позже о поведении симбирского дворянства во время ареста: «Баратаев, рассчитывая, вероятно, на то, что уж о каждом его действии непременно будут доносить, требовал себе постной пищи (это было великим постом) и твердил надзирателю, что привык соблюдать все посты, полагая, что это будет иметь влияние и на Ж<уковско>го, и на следователей» [13, с. 134]. Причастность Баратаева к тайной организации доказать не удалось, и в конце марта 1826 г. его освободили из-под ареста с оправдательным аттестатом и подорожной [11, с. 221].
В том же году отделавшийся «легким испугом» господин Баратаев вновь отличился.
Желая подвергнуть тщательному и всестороннему анализу состояние общества (и, в первую очередь наиболее близкого самодержавию сословия) после событий 14 декабря 1825 г., император «всемилостивейше соизволили разрешить Губернским Предводителям дворянства представить о нуждах онаго» [3, л. 1а]. Однако предводители Нижегородской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Симбирской, Саратовской и Новгородской губерний, решив отступить от традиционной формы обращения, подготовили консолидированное послание [12, с. 257].
Суть предложений лидеров провинциального дворянства, изложенных в «Записке

Рис. 2. Симбирское дворянское собрание (здание строилось в 1843–1846 гг.)
о нуждах дворянских», заключалась в расширении сословных привилегий, причем сделать это в ряде случаев предлагалось за счет ограничения прав других категорий населения; многие из предложений явно противоречили казенным интересам, так как их выполнение могло нанести урон государственному бюджету [4, л. 1–7 об.; 12, с. 255–257, 645]. На общих собраниях предводителей М. П. Баратаев выступил с инициативой замены назначаемых правительством председателей судебных палат выборными от высшего сословия [12, с. 257]. В целом прошение, поданное в весьма благоприятных для «оппозиции Его Величества» условиях (воцарение нового монарха происходило в сложной внутриполитической обстановке), было призвано поддержать дворянство финансово и усилить роль данного сословия в общественно-политической жизни российской провинции.
Консолидация дворянских лидеров, скорее всего, была весьма неприятным сюрпризом для нового императора, вплотную занятого поиском заговорщиков и тайных организаций среди тех, кто должен был служить опорой трону. Закон не допускал общероссийского объединения дворян; обращение дворян, выработавших единые требования, напрямую к царю также было опасным прецедентом. В этой связи предводителям было указано на то, что они могут обращаться в высшие инстанции только по поручению своих губернских обществ.
Для того чтобы сделать сговорчивее губернских предводителей, решивших подать коллективную петицию, император пожаловал всех их высокими чинами. Особенно головокружительную карьеру сделал по царской милости М. П. Баратаев, к тому времени бывший всего лишь штаб-ротмистром: чиновник X класса был отнесен сразу же к V классу [12, с. 257].
Заручившись поддержкой губернских обществ, дворянские активисты принялись писать собственные проекты.
В подготовленном М. П. Баратаевым тексте нашли отражение основные предложения, выработанные незадолго до этого лидерами дворянских организаций. Так, в представлении Баратаева последовательно отстаивалась мысль о делегировании больших полномочий дворянам в судебной сфере. Вытеснение местного дворянства с судебных должностей чиновниками, не вписанными в родословную книгу Симбирской губернии, выделялось автором в качестве основной причины нарушения традиционного уклада: «Частый переход сих чиновников из одной Губернии в другую, неимение оседлости в той, где пребывают, и неоспоримое по собственным выслугам их уважение к самим себе, сопровождаемое равнодушием к старожилам и обывателям, естественно отделяет их от круга оных, внушает какую-то взаимную холодность и составляет среди общества как бы особое общество судей» [3, л. 5]. Сообщая о фактах объединения этих чиновников в судебных учреждениях с заседателями от горожан с целью осуждения дворян и нарушения тем самым принципа сословности судопроизводства, симбирский предводитель заявлял о необходимости по примеру малороссийских губерний доверить благородным обществам выбор председателей в судебные палаты [3, л. 5].
Определенный отпечаток на содержание поданного от симбирцев документа наложило авторство – трудившийся несколько месяцев над этим текстом князь М. П. Баратаев, хотя и был призван выражать коллективное мнение, но все-таки расставлял акценты в соответствии с собственными амбициями и воззрениями. Как уже упоминалось, этот дворянин отличался активной жизненной позицией и свою деятельность направлял на создание сплоченной дворянской организации. В этой связи более четко в документе сформулирована мысль о необходимости повышения статуса дворянских выборных и их роли в управлении губернией.
По мнению М. П. Баратаева, отсутствие возможностей карьерного роста на выборных должностях демотивирующее воздействие оказывало в первую очередь на служащих уездных и земских судов, а также помощников предводителей. Лишенные внимательного отношения к себе со стороны правительства, занимающиеся деятельностью «многотрудной» выборные сталкивались все с большими финансовыми проблемами, так как хозяйства их по причине занятости владельцев на общественном поприще приходили в упадок. Дворянство ничем не мог- ло отблагодарить своих делегатов за хорошую службу, кроме выражения всеобщего уважения и избрания на очередной срок [3, л. 8 об.–9].
Личный опыт общественной деятельности в переломную для благородного сословия эпоху послужил причиной того, что князь Баратаев в своем представлении обратил особое внимание на изменение характера должности губернского предводителя. В то время в сформированных при губернаторе и вице-губернаторе комитетах предводитель уже не являлся действительным выразителем нужд и чаяний всех проживающих на данной территории дворян: он мог выступать от имени общества по какому-либо вопросу, только обсудив его предварительно на съезде, санкционированном опять же местным начальством; голос дворянского лидера часто «покрывается» двумя голосами коронной администрации. Среди новшеств, негативно сказывавшихся на статусе выборных, также выделены: аттестация их начальниками губерний; необходимость согласования отпуска с администрацией; утверждение духовными консисториями свидетельств, выдаваемых жителям губернии депутатскими собраниями для подтверждения благородства [3, л. 9 об.–10]. Завершается анализ положения дворянства Симбирской губернии неутешительным выводом о месте и роли губернского предводителя: «Он ничто – пред Правителем Губернии, аттестующим его, и что будучи Представителем целаго сословия, не может он быть ни ходатаем, ни защитником» [3, л. 10].
Судя по последовавшей реакции, всеподданнейшее представление М. П. Баратаева не достигло адресата, так как руководство МВД не нашло сформулированные предложения значимыми. Прорабатывавшее данный вопрос министерство поручило Симбирскому губернатору А. Я. Жмакину высказать собственное мнение относительно условий и характера дворянской службы.
По сведениям дореволюционного исследователя С. А. Корфа, предложения губернатора А. Я. Жмакина были приняты комитетом 6 декабря; согласно им были скорректированы некоторые статьи проекта, уже находившегося на рассмотрении Государственного совета [15, с. 508–512]. Например, комитет
-
6 декабря признал полезность предложения Жмакина существенным образом расширить компетенции депутатских собраний.
По мнению губернатора, допуская дворянина к выборам, следовало учитывать еще и его судимость за «лихоимство» и уголовные преступления, лишение права распоряжаться имением [15, с. 508]. В соответствии с последним предложением (по данным С. А. Корфа, кстати, восполнившим довольно существенный пробел готовившегося законопроекта) дворяне, имения которых передавались в ведение опеки за злоупотребления помещичьей властью, должны были лишаться избирательных прав.
В целом предложения симбирского губернатора по сравнению с докладом предводителя дворян были более конкретными, нацеленными на оптимизацию управленческих процедур (но не на повышение статуса и влияния выборных от привилегированного сословия), что сближало их с воззрениями центральной власти.
Вышеупомянутое представление князя Баратаева, по-видимому, «легло под сукно» в какой-то из вышестоящих инстанций. На последней стадии рассмотрения проекта реформирования органов дворянского сословного управления на заседании Государственного совета помимо прочих документов были озвучены записки тульского и рязанского губернского предводителей [15, с. 513].
М. А. Дмитриев – современник исследуемых нами событий, родившийся в Сызранском уезде Симбирской губернии, впоследствии проявивший себя в качестве писателя и чиновника (в 1840-е гг. он являлся обер-прокурором в 7-м московском департаменте Правительствующего сената), – так оценил результативность попыток дворянства повлиять на внутриполитический курс нового императора: «Николай Павлович соизволил утвердить только одно, самое пустое и впоследствии оказавшееся вредным, именно назначения председателей палат не от короны, а по выборам дворянства. То есть: дворянство помазали по губам, как и всегда делают наши Государи в подобных случаях» [12, с. 257]. В воспоминаниях М. А. Дмитриева упоминается о том, что позже настаивавший на даровании дворянским обществам права определять кандидатуры председателей судебных палат М. П. Баратаев признался в ошибочности занятой в прошлом позиции: дворянство иногда выдвигало в председатели судов даже бывших военных, вовсе не знакомых с порядком судопроизводства и гражданской службой [12, с. 257].
Впрочем, вполне вероятно то, что изменить свое мнение дворянскому предводителю пришлось ввиду стечения обстоятельств.
К началу 1830-х гг. М. П. Баратаев, порядком поиздержавшийся на общественной службе, уже испытывал определенные финансовые затруднения. Не увенчалась успехом попытка Баратаева получить помощь из казны – взамен просимой беспроцентной ссуды (15 000 руб. сроком на десять лет) князь Баратаев был пожалован орденом Святой Анны II степени с алмазными украшениями [10, л. 7–8 об.]. 17 сентября 1832 г. он взял под проценты из дворянской суммы 500 руб.; 7 августа 1834 г. князь позаимствовал еще 6 000 руб. [10, с. 43, 44].
Как оказалось впоследствии, указ от 21 апреля 1834 г. о награждении М. П. Баратаева за многолетнее образцовое исполнение обязанностей почетного попечителя Симбирского общества христианского милосердия и Дома трудолюбия орденом Святого Владимира III степени предварял его почетную отставку (в 1834 г. завершался срок пятого трехлетия князя Баратаева на должности губернского предводителя дворянства) [6, л. 2].
Лидер симбирских дворян в то время уже ощущал последствия явно настороженного к себе отношения со стороны императора и его окружения. Летом 1834 г., когда дочерям вдовствующего князя Баратаева Софии и Аделаиде государыня разрешила определиться в пансион благородных девиц, князь четырежды приезжал к статс-секретарю Лонгинову, но попасть на прием к этому сановнику неблагонадежному дворянину так и не удалось [9, л. 1–3]. Рассмотрев всеподданнейшее прошение Баратаева от 2 сентября 1834 г., Николай I соизволил выделить средства на содержание в пансионе лишь младшей из его дочерей [9, л. 4].
Непосредственным поводом к отставке М. П. Баратаева послужил конфликт, произошедший накануне выборов на следующее с 1835 г. трехлетие между лидером дворян и гражданским губернатором А. М. Загряжским. Жандармами было доложено руководству о том, что симбирский наместник скомпрометировал репутацию дочери Баратаева; оскорбленный отец заявил о намерении искать поддержки у дворянского собрания [10, с. 63].
Судя по приведенному в «Записках» жандарма Стогова высказыванию Николая I, его волновали не столько порочное поведение и просчеты губернатора, сколько неуправляемость симбирских дворян, совершенно не посчитавшихся с тем, что кандидатура губернатора была совсем недавно утверждена императором: «Я им (Загряжским. – С. П. ) был… доволен, но он занемог, – политически разумеется!.. К несчастию и моему неудовольствию, вмешалось тут дворянство – симбирское дворянство! Я не скажу, чтобы ими я был недоволен совершенно! Оно готово на все и много делает полезного, но на этот раз поступило крайне неосмотрительно, вмешавшись не в свое дело… Оно в Загряжском должно было знать своего прямого и настоящего начальника. Загряжский не умел поддержать звания своего как следует» [10, с. 63]. 5 марта 1835 г. император приказал уволить и «впредь никуда не определять» А. М. Загряжского [21, с. 654].
Сложившееся в верхах мнение предопределило также и дальнейшую судьбу лидера симбирских дворян. Главе большого семейства – у него было два сына и шесть дочерей – долгое время не удавалось устроиться на службу в госучреждения и тем самым поправить собственное материальное положение. С 1835 г. М. П. Баратаев безрезультатно несколько раз обращался в МВД с ходатайством об определении на штатную должность. Не помогло неблагонадежному дворянину даже исполнение ряда поручений руководства данного ведомства: желавший выслужиться бывший общественник брался за устройство этапных помещений, информировал начальство о запасах продовольствия, видах на урожай и т. д.
Явно рассчитывая привлечь внимание к собственной персоне, в 1836 г. М. П. Баратаев попросил императрицу освободить его от исполнения обязанностей вице-президента Симбирского общества христианского милосердия и попечителя Дома трудолюбия [6, л. 1].
В 1839 г. князю М. П. Баратаеву пришлось письменно обратиться с просьбой об определении к какому-либо месту к самому императору: «раны мои, бедность, недоумение о моей будущности и о преградах отстраняющих меня от службы мне приличной и, как бы обрекающих на безнадежность и жизнь без полезную, приближают меня к дряхлости – а детей моих к нищете и сиротству без приютному. – ВСЕМИЛОСТИВЕЙ-ШИЙ ГОСУДАРЬ! – взывал бывший дворянский активист. – Молю Высокую благодать ВАШУ – воззрите на положение мое и воскресите меня к чести, службе и жизни» [7, л. 4–4 об.]. Однако неблагонадежному дворянину так и не нашлось достойного места в стройных рядах николаевской администрации. В 1839 г. князь Баратаев был вынужден уехать на Кавказ, где открылась вакансия управляющего таможенным округом. Вряд ли стоит напоминать о том, что в первой половине XIX в. этот край был местом ссылки неблагонадежных.
В 1843 г. М. П. Баратаев в очередной раз подал прошение об определении на службу, но кроме распоряжения включить его в список кандидатов на губернаторские места так ничего и не добился [8, л. 1]. Тщетным оказалось даже посвящение императору Николаю Павловичу нумизматического издания, подготовленного М. П. Баратаевым и изданного в 1844 г. в Санкт-Петербурге за свой счет [19, с. 229].
Впоследствии ввиду недостатка средств и все большей дистанции с местным начальством бывший предводитель симбирских дворян жил уединенно в своем родовом имении в с. Баратаевка, где и скончался в 1856 г.
Вне всякого сомнения, пример симбирского лидера оказался весьма показательным для современников. В сознании поволжского дворянства не могло не зафиксироваться то, что в результате изменения характера взаимоотношений монарха и поданных в правление Николая I даже такой авторитетный общественный деятель, как М. П. Баратаев был вынужден завершить карьеру. Финал жизненного пути князя Баратаева продемонстрировал провинциальному дворянству нежелательность занятия независимой позиции по отношению к администрации.
Список литературы Биография князя М. П. Баратаева в контексте взаимоотношений власти и общества в первой половине XIX в
- Васильева Ю. С. Симбирское губернское общество первой четверти XIX века/Ю. С. Васильева//Самарский земский сборник. -2005. -№ 4 (12). -С. 52-55
- Второй отчет Симбирского губернского предводителя дворянства, о действиях по Симбирскому Дворянскому Депутатскому Собранию и о состоянии Дворянских сумм: С 1 апреля 1836 по 1 апреля 1837 года. -. -48 с
- ГАУО (Гос. арх. Ульяновской области). -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 1
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 2
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 4
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 5
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 10
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 11
- ГАУО. -Ф. 656. -Оп. 1. -Д. 21
- Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы: материалы к ист.-биогр. очеркам/К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. -Ульяновск: ИПКПРО, 2003. -192 с
- Декабристы: биогр. справ./сост. С. В. Мироненко. -М.: Наука, 1988. -448 с
- Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни/М. А. Дмитриев. -М.: Новое лит. обозрение, 1998. -752 с
- Завалишин Д. И. Воспоминания о Грибоедове/Д. И. Завалишин//А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников/сост. С. А. Фомичев. -М., 1980. -460 с
- Кистанов С. В. Продолжатели революционных традиций Н. П. Огарева в мордовском крае второй половины XIX -начала ХХ века/С. В. Кистанов//Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. -2014. -№ 1 (25). -С. 23-30
- Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 гг./С. А. Корф. -СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1906. -720 с
- Корчмина Е. С. Институт дворянской опеки в Рязанской губернии в конце XVIII -первой половине XIX века/Е. С. Корчмина//Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. -2012. -№ 9. -С. 7-13
- Першин С. В. Избирательные права дворян и выборы в сословные учреждения в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья)/С. В. Першин//Вестн. Сарат. гос. соц.-экон. ун-та. -2008. -№ 3. -С. 139-142
- Першин С. В. Сословные учреждения в России в первой половине XIX века: По материалам дворянских и городских обществ средневолжских губерний/С. В. Першин. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. -316 с
- Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии. Приложение к Памятной книжке, на 1868 год. -Симбирск: Тип. Симбир. губерн. правления, 1868. -280 с
- Соколовская Г. К. масонской деятельности кн. Баратаева/Г. Соколовская//Рус. старина. -1909. -Т. 137 (№ 2). -С. 424-431; Т. 138 (№ 3). -С. 631-649
- Стогов Э. И. Записки, рассказы и воспоминания/Э. И. Стогов//Рус. старина. -1878. -Дек. -С. 631-704
- Федосеев Р. В. Деятельность дворянских опек в губерниях Среднего Поволжья во второй половине XIX в./Р. В. Федосеев//Теория и практика общественного развития. -2014. -№ 19. -С. 122-125