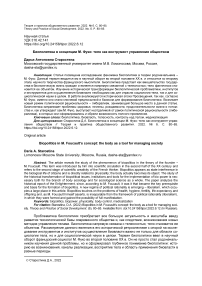Биополитика в концепции М. Фуко: тело как инструмент управления обществом
Автор: Старостина Дарья Антоновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию феномена биополитики в теории родоначальника - М. Фуко. Данный термин вводится им в научный оборот во второй половине XX в. и относится ко второму этапу научного творчества французского мыслителя. Биополитика предстает как вмешательство государства в биологическую жизнь граждан и является напрямую связанной с телесностью; тело фактически становится ее объектом. Изучение исторической трансформации биополитической проблематики, институтов и инструментов для осуществления биовласти необходимо как для отрасли социологии тела, так и для социологической науки в целом. В работе анализируется историческая эпоха Просвещения, так как, согласно М. Фуко, именно оно стало ключевой предпосылкой и базисом для формирования биополитики. Возникает новый режим политической рациональности - либерализм, занимающий большое место в данной статье. Биополитика затрагивает проблемы здоровья, гигиены, рождаемости, продолжительности жизни и потомства и, как утверждает сам М. Фуко, выступает неотделимой от рамок политической рациональности (либерализма), в которых они сформировались и обрели возможность полного проявления.
Биополитика, биовласть, телесность, контроль над телом, медикализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149140653
IDR: 149140653 | УДК: 316.42:141 | DOI: 10.24158/tipor.2022.6.12
Текст научной статьи Биополитика в концепции М. Фуко: тело как инструмент управления обществом
Творчество французского теоретика принято условно разделять на три этапа.
-
1. Первый этап научного творчества М. Фуко (60-е гг. XX в.) связан с исследованием клиники и безумия. Благодаря его докторской диссертации на тему «История безумия и классический век» феномен безумия впервые обретает оформленный научный дискурс (Фуко, 2010а). М. Фуко утверждает, что в рамках Ренессанса фигура безумца служила мощным образом конца эпохи, а сам безумец представлялся носителем логоса, наделенным знанием извне. Во время последующих жестких ограничений осуществляется трансформация восприятия данного образа, что связано с историческими фактами принудительной изоляции безумцев: их заключали в центральной больнице, где до этого располагался лепрозорий. По мнению М. Фуко, это место стало заключением для общей массы индивидов, не вписывающихся в классический буржуазный порядок. Ключевой проблемой первого этапа научного творчества, таким образом, является размышление об истине, а сам период именуется «археологическим». Базисными работами здесь выступают «Рождение клиники» (Фуко, 1998б), «Слова и вещи» (Фуко, 1994), «Археология знания» (Фуко, 2004а).
-
2. Второй этап условно обозначается временными рамками с 1969 г. до начала 1980-х гг. и имеет название «генеалогический». Главной темой становится феномен власти, а конкретнее: индивиды, обладающие властью, воздействие индивидов друг на друга, выстраивание властных отношений и т. д. Фундаментальный труд, демонстрирующий исследовательскую направленность М. Фуко на этом этапе, – «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1999). Согласно утверждению французского социолога, в тюрьме из-за создаваемых в ней условий власть предстает в более чистом виде, чем в обществе.
-
3. Начало 1980-х гг. знаменует третий период научной деятельности М. Фуко – «этический». Труды, наиболее полно отражающие его содержание: второй и третий тома «Истории сексуальности»: «Использование удовольствий» (Фуко, 2004б) и «Забота о себе» (Фуко, 1998а). Основной вопрос: как индивид конституируется в качестве этического индивида.
Все три этапа научного творчества М. Фуко имеют огромное значение для современной социологической науки. Его критика социальных институтов, в частности медицинского, психиатрического и пенитенциарного, наряду с идеями о сексуальности, силе, знании и власти, внесли существенный вклад в развитие социальной мысли.
Рассуждения о биополитике М. Фуко закладывает в лекционном курсе «Рождение биополитики», прочитанном в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году (2010б). В данный период интересы социолога смещаются с исследований клиники и безумия к анализу власти (Фуко, 2010б: 413).
Понятие «биополитика» возникает в связи с событиями в биографии М. Фуко. В сентябре 1975 г. в Испании он вместе с другими протестующими выражает несогласие с казнью одиннадцати противников франкистского режима. Вскоре после этого скончался сам Франко. Символичной М. Фуко считал смерть 20 ноября и использовал это «маленькое, но приятное событие как возможность заявить о начале новой фазы развития власти: биовласти» (Фуко, 2010б: 418). На нем социолог делает особый акцент на лекции в 1976 г.: «Умирал тот, кто обладал суверенной властью над жизнью и смертью и пользовался ею с известной всем жестокостью самого кровавого из всех диктаторов, кто в течение сорока лет установил абсолютное господство права в отношении жизни и смерти и кто в тот момент, когда приближалась его собственная смерть, обрел некую новую область власти над жизнью, которая представляла не только возможность устроить жизнь, заставить жить, но и, в конечном счете, заставить индивида жить вне самой смерти» (Фуко, 2005: 262). В этом выражается принцип биополитики.
Формирование новой политической экономии вызывает ряд важных политических трансформаций. Возникает тенденция, которой следует уделить особое внимание: правительство начинает управлять населением (Фуко, 2010б: 397).
-
М . Фуко предлагает следующую дефиницию термина «биополитика»: «Я понимаю под этим то, как начиная с XVIII в. пытались рационализировать проблемы, поставленные перед правительственной практикой феноменами, присущими всем живущим, составляющим население: здоровье, гигиена, рождаемость, продолжительность жизни, потомство… Мы знаем, какое все возрастающее место занимают эти проблемы начиная с XIX в. и какие политические и экономические цели они конституируют по сей день. Мне представляется, что эти проблемы неотделимы от рамок политической рациональности, в которых они возникли и обрели свое звучание» (Фуко, 2010б: 405).
При анализе биополитики важнейшей категорией выступает население. Если сам термин в определенной форме существовал и до этого, то в рамках политических режимов данное понятие начинает восприниматься как полноценный объект лишь в конце XVIII в. Главной заботой правителя становится не просто сохранение легитимности своей власти (за счет соблюдения границ вмешательства в личную жизнь граждан), а максимизация благополучия населения. Таким обра- зом, с конца XVIII в. и по сей день все политические вопросы формулируются в рамках обозначенной парадигмы. Ответы на них помогает давать экономика, поскольку именно эта сфера регулирует проблемы максимизации благополучия каждого индивида как биологического существа.
Власть, осуществляемая на уровне биополитики, как утверждает М. Фуко в курсе лекций 1977–1978 гг. «Безопасность, территория, население» (2011), работает на двух уровнях. Первый связан с установлением дисциплины через разного рода учреждения: тюрьмы, школы, больницы, клиники и т. д. Второй уровень является менее очевидно увязанным с контролем: управление здесь реализуется с помощью политических технологий, от статистики и демографии до общественного здравоохранения, обустройства городского пространства и строительства жилья (Бе-логорцев, Римский, 2020). Биополитика становится инструментом, посредством которого государство имеет возможность напрямую контролировать население: ограничивать или стимулировать рождаемость, регулировать смертность, уровень здоровья, торговлю, миграцию и профессиональный спектр.
Рассуждения о биополитике следует начать с изучения ее истоков. Целесообразно обратиться к эпохе, которая, по мнению М. Фуко, сыграла значительную роль не только в истории человечества в целом, но и в формировании феномена биополитики в частности, – эпохе Просвещения.
В работе 1984 г. «Что такое Просвещение?» М. Фуко задается вопросами о природе и дефиниции данного понятия (2002). Он определяет просвещение «как совокупность политических, экономических, общественных, институциональных, культурных событий, от которых мы до сих пор в огромной степени зависим» (Фуко, 2002: 349). Совокупность этих событий, согласно социологу, порождает ряд общественных преобразований. Они касаются появления новых политических учреждений, форм знания и технологических изменений.
Фундаментальным следствием перечисленных событий и перемен выступает формирование нового типа рациональности – государственной. Управление становится не просто деятельностью, а искусством, цель которого – польза для государства и всеобщего благоденствия. Так, в XVII–XVIII вв. происходит отказ от традиционных способов управления, основанных на вере, обычаях и т. д. Согласно М. Фуко, две данные традиции – это, во-первых, традиция христианства, где ключевая роль правителя – наставничество, а важнейшая задача – подготовка человека во время земной жизни к переходу в иной мир; во-вторых, традиция Макиавелли (основной целью управления является укрепление власти государя, главное – защита его власти от посягательств внешних и внутренних врагов) (Фуко, 2002: 365). На замену им приходит совершенно новый тип управления, базирующийся на разумном познании.
Таким образом, ключевыми итогами эпохи Просвещения для структуры властных отношений становятся следующие:
-
– установление четкой связи между политикой как практикой и политикой как знанием;
-
– формирование нового понимания политики и истории, в рамках которого государства стали осознавать себя, свой исторический контекст и существование множества других государств на ограниченной территории;
-
– понимание важнейшей задачи государства: поскольку оно является самоцелью, то не должно уделять много внимания каждому отдельному члену общества, государство интересует то, что индивид может сделать для его могущества.
Новый тип управления как плод Просвещения приводит к становлению новой системы наказания и контроля, которой М. Фуко уделяет огромное внимание в работах на протяжении всей научной карьеры. Данная система – продукт либерализма (Фуко, 2010б: 39) – служит базисом формирования биополитики.
Проблематика либерализма не только становится началом рассуждений о биополитике в обозначенном курсе лекций, но и является его системообразующим звеном. М. Фуко утверждает, что «либерализм нужно рассматривать как общие рамки биополитики» (2010б: 398).
Биополитика напрямую связана со здоровьем, репродуктивностью, гигиеной и продолжительностью жизни. Данные проблемы обрели новое проявление в рамках определенного политического режима – либерализма. Именно ему они бросают вызов.
Важно отметить, что либерализм понимается не как идеология, а как практика, «способ действовать», имеющий конкретные цели и регулируемый постоянной рефлексией (Фуко, 2010б: 406). Основной принцип либерализма состоит в утверждении, что «управления всегда слишком много». Легитимность средств достижения целей становится не менее важным пунктом, чем отсутствие критики в управлении. Согласно М. Фуко, «либерализм – инструмент критики реальности: предшествующего правления, от которого пытаются отмежеваться; современного правления, которое пытаются реформировать и рационализировать, выявив его ослабление» (Фуко,
2010б: 408). Исследование либерализма необходимо для понимания того, как проблемы, связанные с населением, обозначаются и решаются правительством, которое еще не реализует либерализм, но стремится к этому.
Важное место в рамках новой либеральной системы, а также в аспекте вопросов «жизни и населения» занимают категории «медицина» и «тело». В работе «Рождение социальной медицины» М. Фуко отмечает: «Тело – биополитическая реальность; медицина – биополитическая стратегия» (2006: 82). М. Фуко утверждает, что при капитализме важнее всего биополитическое, биологическое и телесное измерения. Он основывается на ряде гипотез, которые позиционирует как общепризнанные. Например, в качестве известного факта М. Фуко приводит то, что человеческое тело с точки зрения политического и социального среза оценивается как рабочая сила. Таким образом, целями медицинского обслуживания выступают, во-первых, улучшение человеческого капитала; во-вторых, его сохранение для как можно более долгого использования. Согласно М. Фуко, медицина обладает колоссальной властью, поскольку имеет не только эксклюзивный доступ к телу (конкретному пациенту), но и политическое влияние, оказываемое на весь социум: «Имея возможность наблюдать каждого, контролировать его жизнедеятельность, изолировать от других людей при необходимости, констатируя смерть/инвалидность, медицина контролирует все общество, записывая и фиксируя непрерывно информацию в медицинских картах за каждым, получая в итоге полную картину актуального состояния населения» (2006: 94). Медицина теряет прежний высокий уровень доверия: «Между обществом и врачебным сообществом нарастает конфликт взаимоотношений, социальная напряженность является отражением неудовлетворенности потребностей и ожиданий населения в здравоохранении» (Осипова и др., 2019: 395). Доверие претерпевает трансформацию в процессе перехода от традиционного общества к современному: уменьшается роль личного доверия «между отдельными индивидами» и возрастает «значимость доверия социального, обезличенного, выступающего как форма контроля за участниками социального взаимодействия» (Лядова, Лядова, 2016: 118).
Исследование медицины М. Фуко было сфокусировано в основном на западном обществе. Этому есть две главные причины. Первая связана с показательным прогрессом медицины на Западе в 1960–1970-е гг., который, очевидно, привлекает исследователей на международном уровне. Вторая причина – увлечение психиатрией самим М. Фуко. Три базовых направления изучения западной медицины можно представить следующим образом (Михель, 2019: 65): во-первых, властно-дисциплинирующая функция психиатрии; во-вторых, административные функции медицинских учреждений; в-третьих, роль социальной медицины в административно-политической системе общества. В совокупности они отражают реальное проникновение власти в медицинскую сферу и являются тремя вопросами о медицине, ответы на которые М. Фуко оформляет в научных трудах.
Первый вопрос, как уже обозначено, связан с властно-дисциплинирующей функцией психиатрии. При исследовании данной проблематики М. Фуко использует метод, который именует как археологический (или генеалогический), что подразумевает изучение феномена в момент состояния «перехода». Этот переход и анализирует М. Фуко в знаменитой работе «История безумия в классическую эпоху» (2010а). Психиатрия как самостоятельная область медицины зародилась еще вначале XIX в. Лечение психически больных пациентов осуществлялось путем помещения в закрытую лечебницу и предполагало обязательную изоляцию. В тех случаях, когда излечить человека было невозможно, она являлась своего рода средством спасения родственников и окружающего общества. В 1950-х гг. начинают появляться первые препараты для лечения психических расстройств. Политика содержания меняет ориентир в сторону того, чтобы не задерживать пациентов надолго в лечебницах и возвращать их в социум (The Western Medical Tradition…, 2006: 473).
Социолог анализирует, сравнивает и устанавливает связь между формами ранней психиатрической лечебницы и более поздними медицинскими учреждениями для лечения пациентов с психическими отклонениями. В первом случае лечение как таковое не предполагалось, а скорее представляло собой изоляцию от общества. Категория безумия в Средние века является одной из самых важных и для теоретического осмысления. В этот период отклонения в психическом здоровье рассматриваются в религиозном ключе: через призму грехов и божьей кары ((Михель, 2019). Стигматизация продолжает распространятся и в XVII в. Наглядным примером служит Парижский общий госпиталь, который не был больницей в классическом смысле этого слова. В него заключали неугодных обществу индивидов, даже преступники попадали туда: «Так, сумасшедшие “смешались” с обитателями работных домов и каторжных тюрем, а бедняки, бродяги, бездомные, преступники и умалишенные оказались под одной крышей» (The Western Medical Tradition…, 2006: 20). В то время психически нездоровых пациентов определяли и изолировали от общества, прежде всего потому, что они не были способны к производительному труду. Клиника для душевнобольных выступала местом концентрации дисциплинирующей власти в лице врачей, надзирателей и санитаров. Только позднее установка изменилась, кроме того, врачи получили достаточную квалификацию, чтобы выявлять среди всех неспособных к труду действительно душевнобольных.
Описанные практики изоляции и изгнания являются фундаментальными механизмами становления исторических форм социального контроля. Таким образом, их можно рассматривать как первоначальные практики медицинской стигматизации (The Western Medical Tradition…, 2006: 19).
Второй вопрос затрагивает административные функции медицинских учреждений. Согласно М. Фуко, средневековые больницы отличались от современных не только менее технологичным оборудованием, количеством и качеством используемых медикаментозных препаратов, но и, что самое важное для нас, функциями и тем, как их воспринимало общество. Подробный анализ данной проблемы содержится в знаменитой работе философа «Рождение клиники» (Фуко, 1998б) и частично в не менее известном труде «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (Фуко, 1999). Основными посетителями больниц того периода являлись бедные больные люди, которым больше некуда было идти. Они приходили не столько за оказанием квалифицированной помощи, сколько для того, чтобы спокойно умереть. Однако в то время, как напоминает социолог, для получения качественного медицинского обслуживания пациенты обращались за частной помощью, а не в больницы.
Третий, не менее важный вопрос социолог рассматривает в курсе лекций «Безопасность, территория, население» (Фуко, 2011). Он отражает роль и место социальной медицины в современном западном обществе, а конкретно – в его административно-политической системе.
Социальная медицина, как утверждает М. Фуко, зарождается параллельно с образованием новой формы управления государством, при которой властные круги лучше могут управлять здоровьем граждан, контролируя, как следствие, их тела. Он называл это различными терминами, один из которых «биовласть». В первом томе «Истории сексуальности» М. Фуко выделял два типа биовласти. Первый – «анатомо-политика человеческого тела» – предполагает механизацию человеческого тела, подведение под единый образец: марш, чистописание, прохождение курсового лечения. Второй – «биополитика народонаселения» – отвечает за контроль населения для полноценного обеспечения значимых для общества биологическо-физиологических процессов: рождения, смерти, уровня средней продолжительности жизни, здоровья и т. д.
Одним из значимых примеров «технологий безопасности», по мысли М. Фуко, стала массовая вакцинация от оспы в конце XVIII – начале XIX в. Они позволяли составлять портрет здоровья населения в целом. Кроме того, они помогали анализировать, какая именно группа индивидов (по территориальному, возрастному и иным признакам) нуждается в наибольшем контроле состояния здоровья, чтобы не допустить распространения эпидемии и, как следствие, возрастания смертности.
Подобные мероприятия позволили социальной медицине завоевать авторитет и стать в глазах народа синонимом надежности, необходимости и безопасности. На этапе зарождения социальной медицины и формируется институциализированная биополитика.
Аспекты телесности и медицины неотделимы от биополитики, так как для М. Фуко государственность неолиберализма заключается во власти над гражданином не как над юридическим субъектом, а как над «частью биомассы, называемой населением; следовательно, это не касается законности, а связано только с жизнью» (Koljevic, 2015: 97).
Медицина, таким образом, становится важнейшим средством осуществления биополитики, ее платформой для реализации. Она охватывает и подчиняет своему контролю все проявления телесности; не только ее физиологические аспекты, но и морально-психологические (например, через психиатрию).
Важно также отметить актуальность идей М. Фуко для «новой нормальности»1, связанной с затронувшей весь мир пандемией COVID-19. Обязательная вакцинация, ограничение передвижения, масочный режим, сдача ПЦР-тестов для работы и путешествий – все это является прямым отражением реализации биовласти в современной реальности: контроль тела через медицину. Биополитика обладает всеми необходимыми инструментами и социальными институтами для осуществления контроля и управления телом не только одного индивида, но и в рамках целого общества.
Список литературы Биополитика в концепции М. Фуко: тело как инструмент управления обществом
- Белогорцев Д.А., Римский А.В. Практики биополитики: история и современность // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2020. Т. 45, № 4. С. 655-666. https://doi.org/10.18413/2712-746X-2020-45-4-655-566.
- Лядова А.В., Лядова М.В. Особенности формирования взаимоотношений в системе врач-пациент в современных условиях // Социология медицины. 2016. Т. 15, № 2. С. 116-121. https://doi.org/10.1016/1728-2810-2016-15-2-116-121.
- Михель Д. Мишель Фуко и западная медицина // Логос. 2019. Т. 29, № 2 (129). С. 64-81. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2019-2-64-78.
- Осипова Н.Г., Семина Т.В., Новоселова Е.Н. Доверие врачебному сообществу: резерв для сохранения и улучшения здоровья населения России // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2019. Т. 20, № 5. С. 394-401. https://doi.org/10.24022/1810-0694-2019-20-5-394-401.
- Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977-1978 учебном году / пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб., 2011. 543 с.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху / пер. И.К. Стаф. М., 2010а. 698 с.
- Фуко M. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб., 2010б. 447 с.
- Фуко M. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью: в 3 ч. Ч. 3. М., 2006. 311 с. Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976 учебном году / пер. с фр. Е.А. Самарской. СПб., 2005. 311 с.
- Фуко М. Археология знания / пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004а. 415 с.
- Фуко М. История сексуальности. Т. 2. Использование удовольствий / пер. В. Каплуна. СПб., 2004б. 432 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью : в 3 ч. Ч. 1. М., 2002. 381 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999. 478 с.
- Фуко М. История сексуальности. Т. 3. Забота о себе / пер. с фр. Т.Н. Титовой, О.И. Хомы. Киев; М., 1998а. 282 с.
- Фуко М. Рождение клиники / пер. с фр. А.Ш. Тхостов. М., 1998б. 307 с.
- Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук : пер. с фр. СПб., 1994. 488 с.
- Koljevic B. Twenty-First Century Biopolitics. Frankfurt am Main et al., 2015. 96 p.
- The Western Medical Tradition: 800 to 2000 / W.F. Bynum, A. Hardy, S. Jacyna, C. Lawrence, E.M. Tansey. Cambridge, 2006. 614 p.