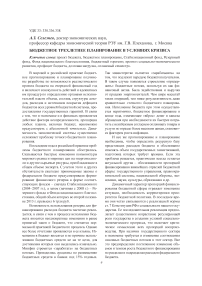Бюджетное трехлетнее планирование в условиях кризиса
Автор: Селезнев А.З.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономическая теория
Статья в выпуске: S2 (32), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится анализ использования накопленного в России опыта трехлетнего бюджетного планирования за 2008-2013 гг. Раскрыто значение трехлетнего планирования как инструмента закрепления новых бюджетных обязательств, а также как инструмента стратегического целеполагания. Аргументируется положение, что данная роль в условиях кризиса фактически не реализуется. Это подтверждается фактическими данными за соответствующие годы, в том числе по исполнению бюджета. Сделан вывод, что имеет место лишь имитация трехлетнего бюджетного планирования. Раскрыта связь этого процесса с качеством прогнозирования макроэкономических параметров. Аргументируется формальный характер и неэффективность антикризисных мер.
Проект бюджета, бюджетное планирование, стабилизационный фонд, резервный фонд, фонд национального благосостояния, бюджетный горизонт, прогноз социально-экономического развития, профицит бюджета, долговая нагрузка, "плановый секвестр"
Короткий адрес: https://sciup.org/142178955
IDR: 142178955
Текст научной статьи Бюджетное трехлетнее планирование в условиях кризиса
В мировой и российской практике бюджетное прогнозирование и планирование подчинены разработке по возможности реалистического проекта бюджета на очередной финансовый год и включают совокупность действий и адекватных им процедур по определению органами исполнительной власти объема, состава, структуры доходов, расходов и источников покрытия дефицита бюджетов всех уровней бюджетной системы, предоставления государственных гарантий. В связи с тем, что в экономике и в финансах проявляется действие фактора неопределенности, пропорции любых планов, включая бюджет, невозможно предусмотреть с абсолютной точностью. Динамичность экономической системы существенно осложняет проблему точного бюджетного планирования.
В последние годы в российской практике проблемы бюджетного планирования обострились. Сказываются быстрые изменения конъюнктуры мирового рынка и мировых цен на энергоносители и другие сырьевые ресурсы, преобладающие в общем объеме экспорта. С учетом этого и других обстоятельств ежегодно принимаемые законы о федеральном бюджете предусматривали формирование финансового резерва в форме соответствующих фондов – сначала Стабилизационного (2004–2007 гг.), а затем (начиная с 2008 г.) – Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, общий объем которых во второй половине 2013 г. превысил 6 трлн руб.
Возможность использования резерва для финансирования расходов бюджета частично реализуется, в связи с чем в процессе исполнения бюджета вносятся неоднократные изменения в ранее принятый закон о бюджете, что считается нормальной практикой бюджетного процесса. Однако все более отчетливо проявляются и ее изъяны. Изменения в бюджет вносятся и по причине использования бюджетных средств не на те цели, для достижения которых они выделялись изначально. Минфин стремится «заработать» на бюджетных потоках. Проводились аукционы по размещению бюджетных средств в банках под 15% годовых.
Так министерство пытается «зарабатывать» на том, что подлежит передаче бюджетополучателям. В таком случае появляется стремление «придержать» бюджетные потоки, используя их как финансовый актив. Была задействована и выручка от продажи энергоносителей. Чем шире масштаб таких операций, тем ниже результативность даже сравнительно «точного» бюджетного планирования. Исполнение бюджета при этом осуществляется неритмично, бюджетное финансирование в конце года, означающее «вброс» денег в каналы обращения при необходимости их быстрее потратить с неизбежным согласием оплачивать товары и услуги по гораздо более высоким ценам, становится фактором роста инфляции.
И все же прогнозирование и планирование необходимы, чтобы определить ресурсную базу предстоящих расходов бюджета и обоснованно изменять объем государственных заимствований, подготовка которых требует времени. Если эта проблема решается, практически всегда остается актуальной другая – обоснованности пропорций финансирования важнейших отраслей бюджетной сферы: государственного управления, правоохранительной системы, национальной обороны, экономики, науки, культуры, образования и др.
Динамичный характер пропорций финансирования бюджетной сферы отражает изменение ситуации, необходимость корректировки приоритетов бюджетной политики. В последнее время они четко связываются с реализацией нормы ст. 7 Конституции РФ о социальности нашего государства. Ее последовательная реализация предполагает существенное возрастание регулирующей роли государства в создании условий социальноэкономического прогресса, что включает критическое осмысление всех пропорций воспроизводства. При наличии государственного сектора в экономике требуется и изменение соотношения основных бюджетных потоков в этот сектор. Все это предопределило постепенное изменение объемов и темпов роста бюджетного финансирования по разделам и подразделам расходов федерального бюджета.
Начиная с 2007 г. Правительство РФ приступило к разработке прогнозов на три года и составлению бюджета на очередной год и последующие два года, с ежегодным отдалением «бюджетного горизонта» также на один год. Благодаря этому предполагалось закрепить намеченные перемены, сдерживать реализацию финансово необеспеченных инициатив исполнительной и законодательной ветвей власти в процессе исполнения бюджета. Но на практике этого не получилось. Бюджетная «трехлетка» была приостановлена, исполнялся бюджет на 2009 г. Представляется актуальным анализ причин этого явления.
Прежде всего, нереалистическими были прогнозные расчеты. В радикально измененном (апрель 2007 г.) Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ) предусмотрено, что проект бюджета составляется и утверждается на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств сроком на три года. Ежегодно принимаемые бюджеты основываются на бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, на указанном прогнозе, что находит отражение в основных направлениях бюджетной и налоговой политики (ст. 169 БК РФ). Предусматривалось также (ст. 173 БК РФ), что прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района (городского округа) разрабатывается на период не менее трех лет и предполагает уточнение параметров планового периода. В пояснительной записке к прогнозу должно быть дано обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Все это весьма существенно. Кризис 2008 г. поставил разработчиков проекта бюджета перед фактом невозможности что-либо прогнозировать на достаточном уровне обоснованности. Оказалось, что на первом этапе перехода к бюджетной трехлетнему планированию (начало было положено в 2007 г.) прогноз был формальным, даже приближенно не определяющим перспективу на три года.
При разработке прогнозов Министерство финансов и Минэкономразвития с экономическими институтами РАН, как было в практике Госплана, не взаимодействуют непосредственно. Этот вопрос подробно освещался в статье академика Л.И. Абалкина в журнале «Финансовый контроль» (2009 г., №2). Исключены контакты крупных ученых-экономистов с представителями федеральных органов власти. Эксплуатируется тезис «причин кризиса не знает никто». Вряд ли с этим можно согласиться. Другое дело – это трудно сдерживаемый многофакторный процесс, на что указывалось в одной из статей автора [1].
Основным пороком первого опыта бюджетного трехлетнего планирования оставалась нереа-листичность прогнозных расчетов, усиливающаяся в связи с мировым финансовым кризисом, что обычно преподносилось как абсолютно внешний фактор. Хотя известно, что этот пресловутый кризис в России имеет и глубокие внутренние корни, связанные с игнорированием необходимости поддержания воспроизводственных макропропорций, с бесконтрольностью центральных властей при формировании внешнего корпоративного долга, с дефектами функционирования кредитнобанковской системы. Международные резервы «работали» в основном на экономику зарубежья (см. табл. 1). В этой связи совершенно прав академик Е.М. Примаков, предлагая поступающие в Резервный фонд средства направлять на государственное инвестирование в эффективной форме [1]. Крупные накопления в резервных фондах напоминают тот случай, когда «царь Кощей над златом чахнет».
Таблица 1
Активы, в которых были размещены международные резервы России (на 1 ноября 2008 г.) *
|
Класс активов |
Вид активов |
Количество размещенных активов |
|
Первый |
Инвестиционные ценные бумаги с гарантией правительств |
317,1 млрд долл. |
|
Второй |
Ценные бумаги федеральных агентств США и других стран |
52,7 млрд долл. |
|
Третий |
Сделки обратного репо с нерезидентами |
72,1 млрд долл. |
|
Четвертый |
Депозиты и остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках |
4,1 млрд долл. |
|
Пятый |
Монетарное золото, хранящееся на территории России |
507,0 т / 12,6 млрд долл. |
|
Всего |
458,6 млрд долл. |
|
* Таблица составлена по данным Центрального банка Российской Федерации.
Обращаясь к опыту отмены второй трехлетки (2009–2011 гг.), отметим, что уже при разработке прогноза как основы первой бюджетной трехлетки (2008–2010 гг.) расчеты темпов роста объема ВВП оставляли желать лучшего – достаточно сравнить предполагаемый объем ВВП в смежных бюджетных трехлетках. Удивляет качество прогнозных оценок: объем ВВП на один и тот же 2009 г. выражен величинами 39,48 трлн руб. и 51,17 трлн руб. Различались они в 1,31 раза (см. табл. 2). Соответственно в том и другом проектах на 2010 г. объемы ВВП различались в 1,33 раза (44,8 трлн руб. и 59,1 трлн руб.). Предполагаемые уровни цен на нефть совершенно не учитывали четко обозначившихся реалий глубины кризиса, хотя на момент внесения в палаты Федерального Собрания проекта закона о бюджете (по закону он вносится не позднее 26 августа) темп их снижения обозначился довольно четко. Поэтому прогноз следовало корректировать. Аналогично расходы федерального бюджета на один и тот же 2009 г. в бюджетных расчетах на 2008–2010 гг. и на 2009–2011 гг. различались в 1,22 раза, а на 2010 г. – в 1,29 раза. Все это ставило под вопрос целесообразность такого бюджетного прогнозирования на три года и соответственно – трехлетнего планирования.
Таблица 2
Показатели федерального бюджета в бюджетных трехлетках на 2008–2010 гг. и на 2009–2011 гг. (в млрд руб. и в %) [3]
|
Бюджетная трехлетка 2008–2010 гг. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Объем ВВП, в млрд руб. в % |
34870,0 100,0 |
39480,0 113,2 |
44480 127,5 |
|
Доходы федерального бюджета, в млрд руб. в % к ВВП |
6673,2 19,3 |
7421,2 18,79 |
8035,0 18,06 |
|
Расходы федерального бюджета, в млрд руб. в % к ВВП |
6500,3 18,6 |
7361,9 18,65 |
7998,7 17,98 |
|
Профицит бюджета, в млрд руб. в % к доходам |
172,9 2,59 |
59,3 0,8 |
36,3 0,45 |
|
Бюджетная трехлетка 2009–2011 гг. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
Объем ВВП, в млрд руб. |
51175, 0 |
59146,0 |
67610,0 |
|
Доходы федерального бюджета, в млрд руб. в % к ВВП |
10927,1 21,55 |
11733,6 19,8 |
12839,0 19,0 |
|
Расходы федерального бюджета, в млрд руб. в % к ВВП |
9024,7 18,0 |
10320,3 17,4 |
11317,7 16,7 |
|
Профицит бюджета, в млрд руб. |
1902,4 |
1413,4 |
1521,3 |
|
Накопленная величина Резервного фонда, в млрд руб. в % к ВВП |
5100 10,0 |
5900 10,0 |
6700 10,0 |
|
Накопленная величина Фонда национального благосостояния, в млрд руб. |
3300 |
4510 |
6000 |
|
Расчетная цена нефти, в долл. за баррель |
95,0 |
90,0 |
88,0 |
|
Уровень инфляции, в % |
8,5 |
7,0 |
6,8 |
Еще в начале десятилетия в связи с проблемой «точности» бюджетных прогнозов в условиях динамики мировых цен на нефть и другие энергоносители решили, что бесперспективным попыткам «точного» планирования доходов и расходов бюджета следует предпочесть «замораживание» «сверхдоходов» и «усечение» расходов на стадии составления проекта бюджета – с перспективой внесения изменений в принятый закон по мере изменения ситуации. Реальностью стало крупномасштабное резервирование нефтегазовых доходов бюджета путем сознательного планирования профицита как базы создания так называемой
«подушки безопасности». При всех изъянах ее использования гражданам внушалась ее «спасительная» функция – якобы она помогла во время кризиса. На самом деле она во время кризиса позволила списывать на «антикризисные меры» сотни миллиардов рублей – без соответствующей ответственности за использование этих средств. Отметим, что в бюджетах на 2008–2010 гг. и на 2009–2011 гг. профицит на один и тот же 2009 г. был представлен величинами 59,3 млрд руб. и 1902,4 млрд руб. Различались они в 32,07 раза! На 2010 г. подобные величины составляли 36,3 и 1413,4 млрд руб. и различались в 39 раз. Станови- лось ясно, что и эти «плановые» величины будут совсем иными, что потом и подтвердилось. Такое планирование лишалось смысла. Оно затруднялось ростом инфляции [4].
Признанием очень высокого уровня инфляции на исходе 2008 г. и в начале 2009 г. было повышение за короткий период – с 4 февраля 2008 г. по 1 декабря 2008 г. – ставки рефинансирования Центрального банка с 10 до 13%. Это стимулировало рост инфляции. Руководители госкорпораций в ходе обсуждения проблем наукоемкого сектора экономики на заседании Правительства РФ отмечали, что при такой ставке рефинансирования и ссудном проценте около 20% наукоемкие производства не в состоянии обеспечить даже нулевую рентабельность. В условиях кризиса на «старте» каждой очередной скользящей «трехлетки» правительство тем более не смогло создать условий снижения инфляции до закладываемого в расчеты уровня – 8,5%; 7,0%; 6,7% в 2009–2011 гг. соответственно, а затем на 2012–2014, 2013–2015, 2014–2016 гг. Уровень инфляции в 2009 г., после кризисного 2008 г., в котором инфляция оказалась выше 13% и была задействована четверть объема золотовалютных резервов, достигавшего около 598 млрд долл., не был существенно снижен. Затем его удалось снизить, хотя известно, что официально декларируемый фактический уровень постоянно занижается. Например, почти при нулевом росте ВВП в 2013 г. и росте всех цен инфляция на 2014 г. не может быть на уровне 4,5–4,6%, как прогнозировалось в расчетах на очередные три года. При росте цен и тарифов он будет существенно выше и в 2014–2016 гг.
Проект очередного трехлетнего планирования бюджета (2014–2016 гг.) и его последующая корректировка путем «планового секвестра» (делается такое впервые) на 5% не позволяет рассчитывать на вновь принимаемые обязательства и на закрепление их роста в трехлетней перспективе. Более того, относительно сокращаемые расходы будут покрываться при бюджетном дефиците в 2014 г. – 373 млрд руб., в 2015 г. – 826,3 млрд руб., в 2016 г. – 485 млрд руб. Это составит 0,5–0,6% ВВП. Намного значительнее был бы дефицит при сохранении достигнутого уровня расходов относительно ВВП. И это при условии, что Резервный фонд и Фонд национального благосостояния превышают 6 трлн руб. В следующие три года (2015–2017 гг.) также не исключено, что будет реализована схема относительного сокращения (в процентах к объему ВВП) общего объема расходов бюджета и бюджетное финан- сирование по всем 14 разделам расходов федерального бюджета при возрастании расходов по обслуживанию госдолга. Эти расходы в принятом бюджете засекречиваются. Бюджетные трехлетние планы стали инструментом относительного сокращения расходных обязательств и превращаются в свою противоположность. В этом качестве они выступают как противоречащие бюджетным посланиям Президента страны, которые выхолащиваются последующими заявлениями о необходимости тратить деньги скромнее. Анализ дает основания утверждать, что декларации о намерениях и реалии бюджетного процесса явно не совпадают. Опыт составления бюджетных «трехлеток» не вылился в опыт их исполнения с учетом динамики ВВП. На самом деле они ни для кого руководством к действию не становятся. Имитируется реализация принципа «плановости» бюджетного процесса, «консерватизм» экономической модели как признак уверенности в ее правильности.
Отметим ряд других тенденций. Во-первых, в рамках трехлетнего бюджетного планирования не снижались налоги в целях стимулирования реального сектора экономики. Минфин сопротивлялся снижению НДС, отрицая стимулирующую роль пониженных налогов, полагая, что «меры финансового стимулирования нельзя прописывать детям в больших дозах… Российская экономика пока находится в подростковом возрасте» [5]. Игнорированы установки ряда бюджетных посланий Президента РФ за последние годы по снижению ставки НДС. Налоговое стимулирование производства остается настоятельной необходимостью.
Во-вторых, оставались и остаются высокими риски неэффективного использования бюджетных средств, для преодоления чего и предполагалось улучшение бюджетного планирования. Коррупционный налог превышает 1 трлн руб. в год. При повышении эффективности использования средств на эту величину могли возрасти инвестиции в реальный сектор экономики.
Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ предусматривает, что по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. По результатам указанной оценки не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации .
Сегодня продолжают финансироваться имитационные программы, несмотря на их сокращение, путем оформления как подпрограмм. С учетом бюджетных посланий Президента РФ, в которых ставилась задача провести инвентаризацию программ, уменьшить количество и улучшить качество всей работы, связанной с их подготовкой и реализацией, был взят курс на сокращение их числа. Объем финансирования программ при их неэффективной реализации возрастает. Наблюдается существенное изменение объема финансирования федеральных целевых программ на один и тот же год при отдалении на год бюджетного горизонта. В таком случае ни о каком трехлетнем планировании говорить неуместно. Несмотря на то что в кризисной ситуации возрастает роль программ в модернизации всей инфраструктуры экономики и социальной сферы, в действительности дело обстоит иначе.
В-третьих, оставались высокими риски бюджетных вложений. Они возрастали и в связи с фронтальной крупномасштабной поддержкой госкорпораций в порядке существенного увеличения их уставных капиталов. Однако формулировка целей, на которые выделялись средства госкорпорациям, в ряде случаев носила расплывчатый характер. ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» должна была получить в 2009 г. 46,8 млрд руб. на «повышение надежности функционирования системы». Это трудно проверить. Неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых ОАО с участием государства, стало нормой. Нашлись колоссальные средства для «вливания» в госкорпорации с не вполне ясными функциями, для вложений в ценные бумаги правительств зарубежных государств, но оставались весьма скромными вложения в решение острейшей проблемы повы- шения доступности жилья и реконструкцию запущенного жилищно-коммунального хозяйства, поддержки малого бизнеса, системной реформы здравоохранения и образования, в решение проблем финансирования создания инфраструктуры защиты от наводнений. Во всех развитых странах такие меры осуществляются.
В-четвертых, опыт посткризисного бюджетирования выливается в то, что «социальная ориентация» всей бюджетной политики во многом становится декларативной, «конечный результат» бюджетного планирования проявляется в слабо выраженном решении социальных проблем. Обычно подчеркивается, что эти расходы в результате внесения изменений в бюджет будут нетронутыми. Заметим, что в бюджетной трехлетке на 2013–2015 гг. различие показателей, относящихся к одному и тому же году в смежных трехлетках, ставило под сомнение реальную возможность исполнения бюджета по расходам из-за недостатка доходов. Бюджетные трехлетки стали инструментом наращивания госдолга. Гос-долг на 2014 г. в проекте бюджета предусмотрен в объеме 12% ВВП, на 2016 г. – 14,37%. Бюджетные трехлетки стали инструментом относительного сокращения финансирования развития национальной экономики – с 17,25% в 2012 г. до 14,38% в 2014 г. Ежегодная «привязка» бюджета к пропорциям кризиса является предупредительным секвестром. Различия показателей бюджета за одни и те же годы (2012–2014 гг.) в смежных трехлетках весьма существенны и достаточно убедительно говорят о бессмысленности «скользящего» целеполагания в бюджетной политике. По сути, оно является имитационным, дискредитирующим идею бюджетного планирования. Необходим радикальный пересмотр используемой модели.
Таблица 3
Основные показатели федерального бюджета Российской Федерации на 2013 г. и на период 2014 и 2015 гг. [6]
|
Показатель |
2011 г. (исполнение) |
Планирование (предусмотрено законами о федеральном бюджете в смежных трехлетках 2012–2014 и 2013–2015 гг.) |
|||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||
|
ВВП, в трлн руб. |
50,4 |
58,69 |
66,52 |
73,99 |
82,94 |
|
Доходы, в млрд руб. в % к ВВП |
11367,0 22,5 |
11779,8 20,07 |
12865,9 19,34 |
14063,4 19,01 |
15615,5 18,82 |
|
Расходы, в млрд руб. в % к ВВП |
10925,0 21,6 |
12656,4 21,5 |
13387,3 20,12 |
14207,0 19,2 |
15616 18,83 |
|
Дефицит, в млрд руб. Профицит, в млрд руб. |
+ 442,0 |
876,6 |
521,4 |
143,58 |
10,77 |
Список литературы Бюджетное трехлетнее планирование в условиях кризиса
- Селезнев, А.З. Проблемы бюджетной трехлетки/А.З. Селезнев//Экономист. -2009. -№2. -С. 15-19.
- Примаков, Е. Все только начинается/Е. Примаков//Российская газета. -2012. -12 окт.
- О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг.: федеральный закон от 24 ноября 2008 г. №204-ФЗ. -URL: http://www.consultant.ru.
- Губарь, А.И. О концептуальных основах реформирования экономики переходного общества/А.И. Губарь//Известия Алтайского государственного университета. -2000. -№2. -С. 73.
- Защити себя сам//Время новостей. -2009. -16 февр.
- О федеральном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.: федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №216-ФЗ. -URL: http://www.consultant.ru.