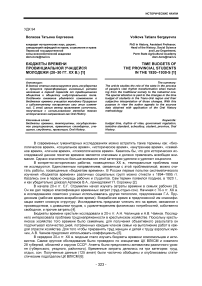Бюджеты времени провинциальной учащейся молодежи (20-30 гг. XX в.)
Автор: Волкова Татьяна Сергеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируется роль государства в процессе трансформации жизненных ритмов населения в период перехода от традиционного общества к обществу индустриального типа. Особенное внимание уделяется изменениям в бюджетах времени учащейся молодежи Приуралья и субъективному восприятию ими этих изменений. С этой целью автор привлекает источники, полученные с использованием методик такого исторического направления как Oral History.
Бюджеты времени, темпоритмы, государственное регулирование, временные стандарты, учащиеся, студенты, провинция
Короткий адрес: https://sciup.org/14934958
IDR: 14934958 | УДК: 94
Текст научной статьи Бюджеты времени провинциальной учащейся молодежи (20-30 гг. XX в.)
В современных гуманитарных исследованиях можно встретить такие термины как: «биологическое время», «социальное время», «историческое время», «внутреннее время», «семейное время», «личное время», «психологическое время». Казалось бы, что для исторических исследований данное понятие времени является ключевым и должно привлекать всеобщее внимание. Однако значительно больше внимания этой категории уделяли и уделяют социологи.
В конкретно-исторических работах, посвященных XX в., темпоральные проблемы пока не исследуются. Единственным направлением, связанным с этой проблематикой, можно считать работы, посвященные «бюджетам времени». В России первые попытки систематического изучения «бюджетов времени» различных социальных групп можно отнести к 1894–1895 гг. Касались они в первую очередь рабочих и студентов. Сам термин появился позднее, в 1920 г., и как убедительно доказал Артемов В.А., принадлежит П. Сорокину [2].
В начале 20-х гг. С.Г. Струмилин начал изучать затраты времени в семьях рабочих [3]. Он же дал первую классификацию временных затрат (труд-отдых-сон). Начиная с 70-х гг. XX в. в исследованиях советских ученых использовалась другая типология, предложенная Г.А. Пру-денским (рабочее время-внерабочее время). Внерабочее время в предложенной им классификации имеет сложную структуру. Исследователь предлагал членить его на время, связанное с производством, с домашним трудом, с удовлетворением физических потребностей, собственно свободное, и прочие затраты [4].
Бюджеты времени крестьян исследовали в 20-х гг. А.Н. Челинцев и А.В. Чаянов. Последнего интересовала проблема трудонапряженности в крестьянском хозяйстве. Поскольку крестьянское хозяйство того времени было семейным, для получения объективного результата он подсчитывал количество дней, потраченных каждым членом семьи на выполнение работ в каждой отрасли хозяйства. Для того чтобы приравнять труд женщин и детей к труду взрослых мужчин, А.В. Чаянов предложил использовать коэффициенты [5].
В середине 20-х гг. ХХ в. модным стало изучать бюджеты времени комсомольцев и активистов. Самое крупное обследование было проведено по инициативе ЦК ВЛКСМ и охватило 28 губерний, областей и округов СССР. Анкеты были предложены активистам различного уровня (губернского, уездного, районного). Временные затраты делились на три категории: труд, отдых, сон. Полученные данные (125 анкет) были частично обобщены и опубликованы статистическим подотделом ЦК ВЛКСМ [6].
Бюджеты времени школьников активно изучались педологами. Многие из представителей этого направления в педагогике считали, что без подобного рода исследований продуктивная педагогическая деятельность невозможна [7].
Приступая к анализу темпоритмов, которые определяли образ жизни учащейся молодежи в 20 – 30 гг., следует подчеркнуть, что речь идет об обществе переходного типа, и, следовательно, разумно допустить возможность параллельного существования различных временных систем.
Задать новый жизненный ритм, приучить к новым (индустриальным) временным стандартам легче детей и подростков, чем людей с устоявшимся образом жизни. Все современные индустриально развитые государства решали эту задачу через государственные образовательные учреждения.
Озабоченность местных органов власти Приуралья этой проблемой просматривается сразу же после окончания Гражданской войны. В сложных условиях голодного 1922 г. было проведено статистическое обследование работы школ первой ступени Пермской губернии. Оно показало, что школы региона не только позднее начинали и раньше положенного времени заканчивали учебный год, но вынуждены были делать перерывы в работе, связанные с отсутствием учащихся. Причины прогулов были объективными: болезни, непогода, отсутствие у детей одежды и обуви [8, c. 50, 51 – 53]
До введения всеобщего обязательного начального обучения деятельность по унификации режимов работы школ не могла дать заметных результатов. Слабая материальная база учебных заведений и отношение к учебе как к бесполезной трате времени со стороны части родителей способствовали этому. В результате, например, в Приуралье в 1925 г., новый учебный год для половины, а именно для 403 деревенских школ начался в октябре, для 49 – в ноябре, а для 7 – в декабре. В марте 7 школ уже закончили работу, 56 продолжили ее до апреля, 356 – до мая и 12 до июня [9, c. 127].
Только после введения обязательного всеобщего начального обучения ситуация стала постепенно меняться. Вопрос о единых стандартах учебного времени считался настолько существенным, что рассматривался на уровне СНК ССР и ЦК ВКП(б). Согласно постановлению от 3 сентября 1935 г. «Об организации учебного года и внедрении распорядка в начальной, неполной средней и средней школе» учебный год должен был начинаться с 1 сентября и заканчиваться 1 июня для 1 – 3 классов, 10 июня для 4 – 7 классов, 20 июня для 8 – 10 классов. Ежедневное пребывание детей в школе определялось в 4 – 6 уроков, то есть от 3-х до 4,5 ч. Региональные особенности жизнедеятельности населения и религиозные праздники в этом временном распорядке учтены не были [10, c. 377 – 378].
Если сравнить новые временные стандарты, связанные с обучением, с дореволюционными нормами, то они были несколько изменены. К примеру, в Чердынском уезде в 1912 г. школьники младших и средних классов должны были заниматься по 4 ч. в день, старших – по 5 часов. В некоторых школах предусматривались дополнительные двухчасовые вечерние занятия, кроме того, выдавались домашние задания. Перемены в целом занимали 45 – 60 мин., в том числе большие 20 – 30 мин. Таким образом, ученики находились в школе от 4,45 до 8 час. ежедневно [11, c. 56].
Итак, со второй половины 30-х гг. все дети школьного возраста должны были жить в рамках нового годового временного цикла: учебное время – не учебное время (каникулы). Стало ли это привычным для них уже в довоенный период?
Как показал наш опрос [12], представление о каникулах как особом времени – времени отдыха для детей, в этот период утвердилось в сознании далеко не у всех представителей этой социальной группы. Из 170 респондентов, смогли описать каникулярное времяпровождение 59 чел. или 34,7 % (24 – горожанина и 35 – жителей деревни). Еще двое собеседников показали свою осведомленность относительно особенностей каникулярного времяпровождения, при этом уверенно утверждали, что у них каникул не было. У одного: «Так как я не учился». У другого этого времени: «Как бы и не было. Все лето работал, зарабатывал на трудодни». Очевидно, что во втором случае каникулярное время использовалось не по назначению, наполнялось другими смыслами, и собственник это прекрасно сознавал.
Весенние каникулы были упомянуты только в двух интервью. Для наших респондентов они не связаны с определенным видом деятельности, не заполнены. Их характерная черта – время вынужденного безделья, которое «приходилось на розлив, выходить было не возможно. Кругом была вода, а обувью были лапти».
Значимым для всех респондентов стали зимние и летние каникулы. Любили дети больше зимние каникулы, так как «зимой дома меньше работы». Это было время подвижных коллективных игр и в городе, и в деревне. Наиболее часто респонденты вспоминают катание на самодельных лыжах, санках, коньках, иногда в лаптях, игру в снежки, колядование, хождение на елку, лепку снежных баб. «Собирались по 10–15 человек». «Катались целыми вечерами». Вместе с этим это время опасное, травматичное. «На льду разжигали костер». «На коньках катались, и врезался в трещину. Коленку разбил так, что целые каникулы лежал дома».
Летние каникулы складывались по-разному. В деревне по выражению одного респондента «особенно не развлекались». И с ним согласились 29,5 % наших собеседников. Четырнадцать человек утверждают, что помогали родителям в домашнем хозяйстве, пятеро работали в колхозах, и один респондент вспомнил, что работал на пришкольном участке. Одновременно это время путешествий. Для деревенских детей это поездка в город к дядям и тетям, или на экскурсии в Пермь. А также это период, когда родители детское время жестко не контролируют, и детям позволяется о нем забывать: «На речке мы готовы были пропадать до вечера, если была хорошая погода». «Иногда даже родители прибегали за нами и заставляли идти домой помогать по хозяйству».
Для городских мальчиков этот период наполнен «мужской работой на дому», «ежедневной ловлей рыбы для еды в период карточной системы», «ловлей птиц и ухаживанием за ними», походами в старших классах на танцы, поездками в деревню, походами с друзьями в лес за грибами и ягодами, занятиями футболом, пилкой дров и чтением книг.
Городские девочки, судя по их воспоминаниям, в каникулы не работали. Для них летние каникулы – это поездка на юг, в Оханск, пионерлагерь «в Сочи почти каждый год», звеньевые сборы и различные игры. По представлениям этой группы респонденток, каникулы – это время, проведенное на улице. Это мог быть отдых на речке, «когда предоставлены сами себе», летний пионерлагерь в школе, игра во дворе в волейбол. В цепи ассоциаций этой группы присутствует также «усиленное питание в пионерском лагере».
Как видно из выше изложенного, у детей в 30-е гг. появилось законное, поддерживаемое государством основание распоряжаться частью времени по своему усмотрению. Правда только одна треть из них в той или иной мере воспользовалась этой возможностью.
Наиболее напряженными бюджетами времени 20 – 30-х гг. можно считать студенческие бюджеты. Об темпоритмах жизни студенческой молодежи Приуралья отчасти можно судить по исследованию, проведенному М.И. Альтшуллером со студентами Пермского университета в октябре 1923 г. Ему удалось опросить 1 200 чел., являвшихся членами ВКП(б), ВЛСМ и профсоюзов. Участники исследования описывали два будних и один воскресный день (с 12 ч. 16 октября до 14 ч. 18 октября) и дополнительно отвечали на 21 вопрос [13].
Исследование, проведенное М.И. Альтшуллером, показало, что в среднем студент тратил на все виды труда (службу, академические занятия, общественную работу, домашнее хозяйство) 15,72 ч. в день. Активисты трудились чуть меньше: профсоюзные деятели по 15,49 ч., а члены партии по 15,41 ч. Соответственно на отдых и сон у них представителей этих групп оставалось в среднем по 7,57; 7,56, 7,58 ч. в день. Те, кто не получал стипендию, естественно, больше времени тратили на службу (9,79 % от бюджета), тогда как у стипендиатов (в основном членов партии и профсоюза) затраты составляли от 4,18 до 4,29 %. Семейные студенты расходовали на служебную деятельность в 3 раза больше времени, чем одиночки [14].
Данные исследования свидетельствуют, что все студенты научились экономить (сокращать) рабочее время за счет совмещения различных занятий или подмены одного вида деятельности другим. Чаще всего прогуливали учебные занятия. В том числе – профсоюзные лидеры до 5,71 % , члены ВКП(б) и ВЛКСМ – 6,75 %, а рядовые студенты с педагогического факультета от 6,46 до 8,75 % учебных часов. Сэкономленное таким образом время они тратили на служебную деятельность.
На общественную деятельность партийные активисты расходовали в три раза больше времени (9,83 % бюджета), чем профсоюзные лидеры и в два раза больше чем остальные студенты [15].
Домашней работой пермские студенты в основном занимались в воскресные дни. В эти же дни студенты больше спали (юноши на 53 мин., а девушки даже на 1,5 ч.). Партийные активисты доделывали в выходные дни учебные задания.
Большой потерей времени для всех групп студентов было стояние в очередях, получение справок и дорога в университет. В рабочие дни на эти действия приходилось тратить от 2,82 до 3,12 ч. Эти затраты сопоставимы с расходами времени на общественно-полезную деятельность [16].
Как свидетельствуют приведенные выше данные, статус партийного активиста давал определенные возможности для оптимизации бюджета времени. Партийные активисты чуть меньше работали в целом, меньше тратили время на службу (другими словами на зарабатывание денег), больше прогуливали академических занятий. Казалось бы, что целесообразнее всего израсходовать этот ресурс на отдых. Однако все сэкономленное время данная группа студентов тратила на общественную деятельность.
Отсутствие времени на отдых не проходило даром для студенческой молодежи. На ежедневное «болезненное состояние» уходило от 0,91 до 1,01 ч. В конечном итоге несбалансированные бюджеты времени неизбежно приводили к росту числа хронических заболеваний. Одно из медицинских обследований, проведенное в 1928 г. показало, что среди активистов-партийцев только 15 % здоровых людей [17].
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), регламентирующее режим труда и отдыха студенческой молодежи вышло только в 1936 г. Согласно этому документу учебный год должен был продолжаться с 1 сентября по 30 июня с перерывами на зимние (24 января – 6 февраля) и летние (1 июля – 31 августа) каникулы. Еженедельная учебная нагрузка в зависимости от курса была снижена с 40 до 18 – 30 ч. [18, c. 377 – 378].
Подводя итоги, можно констатировать, что в 20 – 30-е гг. XX в. различные социальные группы Приуралья (демографические, национальные, религиозные, гендерные, профессиональные) пользовались различными временными координатами (календарями) и поэтому ритмы их жизнедеятельности не совпадали. Особенно заметно это было на уровне семьи, где ритмы труда и отдыха взрослых, не совпадали со временем труда и отдыха детей. Если в домашнем труде дети и подростки ориентировались на ритм действий родителей, то в учебной деятельности они должны были подчиняться жестким условиям государственного стандарта, не учитывающего эмоционально-психологическое состояние ребенка.
Темпоритмы жизни детей и взрослых перестали совпадать. Члены семей стали меньше времени проводить вместе, что неизбежно должно было обострить конфликт поколений.
Насыщенность ритма жизни провинциального студенчества – дань не только возрасту, но и особенностям эпохи 20 – 30-е гг. Переоценка времени труда и недооценка времени отдыха характерное явление для всех государств, вступающих на путь ускоренной модернизации.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Частная жизнь населения Приуралья в 20–30 гг. ХХ в.». Проект № 13–11–59004а(р).
-
2. Артемов В.А. Истории возникновения исследований бюджетов времени // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 141–149.
-
3. См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1972.
-
4. См.: Бюджеты времени. Вопросы изучения и использования. Новосибирск, 1977.
-
5. См.: Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство // Избранные труды. М., 1989.
-
6. Труд, отдых, сон комсомольца-активиста // По материалам выборочного обследования бюджетов времени ак
тивных работников РЛКСМ. М.; Л., 1926.
-
7. См., например: Бюджет времени школьника: сб. ст. / под ред. M.C. Бернштейна, Н.А. Рыбникова. М.; Л., 1927.
-
8. Статистический обзор народного образования Пермской губернии за 1922–1923 уч. г. Оханск, 1924.
-
9. Подсчитано по: Социальная статистика Урала. 1924–1925. Свердловск, 1926.
-
10. КПСС о культуре, просвещении и науке: сб. документов. М., 1986.
-
11. Санитарное состояние школ Чердынского уезда. Пермь, 1914.
-
12. Вопрос о каникулярном времени и его заполнении был одним из более широкого круга вопросов, посвященных социализации детей в 20–30 гг. в Приуралье. Был проведен автором статьи в 1999–2001 гг. методом полуструктури-рованного интервью. В окончательную выборку вошло 170 интервью. Респонденты 1904–1931 гг. рождения жили на территории Западного Урала до начала войны. В статье цитируются высказывания Бобылева П.П. (1926 г. рождения), Кузнецова М.И. (1926), Волкова С.М. (1922), Лягина И.Е. (1920), Вагина А.С. (1928), Стафеева М.М. (1926), Летова Н.А. (1927), Мухачева Ф.Я. (1927), Калашникова И.П. (1924), Ромашова Н.В. (1913), Яшина С.Н. (1925), Картошкиной О.А. (1923), Хариной М.Н. (1923), Кулеминой К.Ф. (1923), Силиной Е.Ш. (1916), Борьппевой В.С. (1918), Жилинской О.В. (1926), Часовиной Н.Щ. (1926), Лядовой Н.Г. (1929), Диевой Л.Н. (1927), Новоселовой Н.К. (1927), Поляковой Н.Ф. (1926), Федотовой В.К. (1926), Елисеевой Л.Г. (1928), Кузнецовой М.П. (1915), Обориной М.Н. (1926), Серебренниковой О.А. (1919).
-
13. Альтшуллер М.И. Бюджет времени пролетарского студенчества Пермского университета. Пермь, 1924. С. 11.
-
14. Там же. С. 21–22.
-
15. Там же. С. 28.
-
16. Там же. С. 10.
-
17. ГАПК. Ф. 132. Оп. 1. Д. 247. Л. 251.
-
18. URL: http://tehnorma.ru/doc_ussrperiod/textussr/ussr_4080.htm (д ата обращения: 28.09.2013).