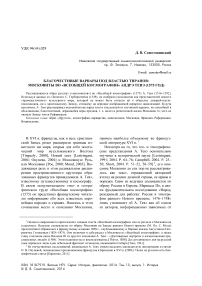Благочестивые варвары под властью тиранов: московиты во "Всеобщей космографии" Андрэ Тевэ (1575 год)
Автор: Самотовинский Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается образ русских («московитов») во «Всеобщей космографии» (1575) А. Тевэ (1516–1592). Используя данные из «Записок» С. Герберштейна (1549), он изобразил московитов как представителей некоего «промежуточного» культурного мира, который не может быть отнесен ни к обществу дикарей-идолопоклонников, ни к христианскому Западу, стоящему на вершине воображаемой иерархии цивилизаций. Будучи католиком, А. Тевэ рассматривал московитов как народ хотя и отделенный от «истинной церкви», но способный к объединению, благочестивый, держащийся веры предков, т. е. видел в религиозной жизни Московии то, чего не хватало Западу эпохи Реформации.
Образ "другого", космография, варварство, цивилизация, московия, франция, реформация, возрождение
Короткий адрес: https://sciup.org/147218991
IDR: 147218991 | УДК: 94(44).029
Текст научной статьи Благочестивые варвары под властью тиранов: московиты во "Всеобщей космографии" Андрэ Тевэ (1575 год)
В XVI в. французы, как и весь христианский Запад, резко расширили границы известного им мира, открыв для себя экзотический мир мусульманского Востока [Tinguely, 2000], Новый свет [Lestringant, 2004; Окунева, 2004] и Московскую Русь, или Московию [Poe, 2000; Mund, 2003]. Выдающаяся роль в этом радикальном расширении пространственного кругозора образованных французов принадлежала А. Тевэ, известному путешественнику и космографу. В своем монументальном этно- и географическом труде «Всеобщая космография» (1575) он представил французскому читателю информацию обо всех известных европейцам народах и странах. Нашлось в этом сочинении место и описанию Московии, причем наиболее объемному во французской литературе XVI в. 1
Несмотря на то, что гео- и этнографические представления А. Тевэ основательно изучены в исторической науке [Lestringant, 1991; 2004. P. 64–76; Campbell, 2004. P. 25– 50; Short, 2004. P. 51–52, 56–59] 2, его описание Московии до сих пор не рассматривалось как текст, отражающий авторский взгляд на реалии далекой страны, ее нравы и порядки. Один из ведущих специалистов по образу России в Европе, Маршалл По, в своем фундаментальном исследовании «Народ, рожденный для рабства: Россия в этнографии раннего Нового времени, 1476–1748» лишь упоминает об А. Тевэ как об одном из авторов, информационно зависимых от
С. Герберштейна [Poe, 2000. P. 137–138]. Другой ведущий специалист по образу Московии, Стефан Мунд, в своей монографии «Orbis Russiarum: возникновение и развитие представлений о “русском мире” на Западе эпохи Возрождения» относит А. Тевэ, наряду с С. Мюнстером, Ф. де Бельфорэ и др., к «авторам-переписчикам» («auteurs-copieurs»), разделы которых о Московии представляют собой «полный или почти полный плагиат» и могут изучаться лишь как образец рецепции и трансляции сведений С. Герберштейна и других писателей, но не как тексты, в которых следует искать авторский взгляд на мир [Mund, 2003. P. 421].
Мы не ставим под сомнение компилятивный характер описания Московии у А. Тевэ и его почти полную информационную зависимость от «Записок» С. Гербер-штейна. Однако хотели бы показать, что французский космограф был не пассивным заимствователем, «механически» переносившим сведения из источника в свой труд, но творческим субъектом, создавшим свой собственный образ московитов. Этот образ мы и намерены реконструировать.
Андрэ Тевэ (André Thévet, 1516–1592) родился в Ангулеме в семье потомственных брадобреев-хирургов [Lestringant, 1991. P. 26]. В возрасте десяти лет, против своего желания, был отдан родителями во францисканский монастырь родного города [Ibid. P. 29]. Монашеская жизнь не привлекала юношу. Известно, что с конца 1530-х гг. он путешествовал по Италии, где судьба свела его с кардиналом Жаном Лотарингским [Ibid. P. 45]. При его поддержке А. Тевэ в 1549–1554 гг. совершил путешествие во владения турецкого султана, посетив Египет, Палестину, Малую Азию и Грецию. По возвращении он опубликовал сочинение о посещенных им странах Ближнего Востока – «Космография Леванта» (Cosmographie de Levant, 1554). В том же году он был лично представлен Генриху II и включен в качестве священника в состав экспедиции во главе с Никола Дюраном де Вильганьоном, вице-адмиралом Бретани, которому было поручено основать колонию в Бразилии – «Антарктическую Францию» [Ibid. P. 159]. Совершив путешествие в Новый свет (1555–1556), А. Тевэ опубликовал сочинение о Бразилии и ее жителях – «Диковины Антарктической Франции, именуемой иначе Америка» (Les singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, 1557).
Труды А. Тевэ и его рассказы о далеких землях принесли ему известность при дворе. В 1558 г. с разрешения папы он расстается с монашеством (но не с саном священника) и начинает придворную жизнь. В 1560 (или еще в 1558) занимает должность королевского историографа и королевского космографа. Роль последнего он исполнял на протяжении почти тридцати лет – при Франциске II, Карле IX, Генрихе III. Постоянством своего положения при дворе он был обязан, прежде всего, доверию к нему Екатерины Медичи, сделавшей его своим духовником [Ibid. P. 127, 159, 160].
Двумя последними опубликованными сочинениями А. Тевэ были монументальная «Всеобщая космография» (La cosmographie universelle, 1575) и «Достоверные портреты и жизнеописания прославленных людей: греков, латинян и язычников» (Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres, grecz, latins et payens, 1584) 3.
«Всеобщая космография», отдельный раздел которой был посвящен специально Московии, представляла собой внушительный двухтомный труд, универсальный этно-географический обзор всего известного в то время мира. Сочинение делится на четыре книги по частям света, начинается с общих вопросов мироустройства, деления поверхности Земли на климатические зоны и части, а продолжается последовательным описанием местностей, их природных и культурных достопримечательностей, нравов и обычаев жителей. Издание иллюстрировано 200 гравюрами, из которых 35 – географические карты.
Произведение А. Тевэ продолжало традицию ренессансной описательной космографии 4. Среди его непосредственных предшественников были немецкий гуманист Иоганн Боэмий (ок. 1483–1535) с его сочинением «Нравы, законы и обычаи всех народов» (Mores, leges et ritus omnium gentium, 1520) 5, знаменитый немецкий космограф Себастьян Мюнстер (1489–1552), создатель «Всеобщей космографии (La Beschreibung aller Lender, 1544) 6, а во Франции – Франсуа де Бельфорэ (ок. 1529–1583), автор универсального этнографического обзора «Всеобщая история мира» (L'histoire universelle du monde, 1570) 7.
Непосредственным прототипом для «Всеобщей космографии» А. Тевэ послужило одноименное сочинение С. Мюнстера. Подобное родство, однако, не исключало резко критическое отношение А. Тевэ к непосредственному образцу и всей традиции. На страницах своего труда он обвинял предшественников в недостоверности приводимой информации и в отсутствии у них личного опыта путешествий и наблюдений. Среди критикуемых были как античные авторы, так и современные, главным образом И. Боэмий [Thévet, 1575. F. 82r, 143r, 334v,
422r.] и С. Мюнстер [Ibid. F. 7r, 16r, 18v, 35r, 143r, 206r, 287v]. Критике подвергся и Ф. де Бельфорэ: его «Всеобщая история мира» для А. Тевэ была лишь переводом низкопробного труда компилятора И. Боэмия [Ibid. F. 82r]. Конечно, не следует преувеличивать так называемый «эмпиризм» А. Тевэ. Исследователь Ф. Лестриньян убедительно доказал, что превознесение «опыта» над кабинетным и книжным знанием у А. Тевэ было не столько проявлением его методологической позиции, сколько служило его самоутверждению посредством дискредитации предшественников. В то же время личный опыт путешественника использовался им минимально, что компенсировалось не только заимствованием информации из чужих сочинений, но и развитым воображением [Lestringant, 1991. P. 14–15]. Впрочем, ради справедливости заметим, что в отличие от Ф. де Бельфорэ и С. Мюнстера, основывавшихся во многом на компиляции И. Боэмия и др., А. Тевэ широко использовал итальянских, португальских, испанских путешественников, посетивших Азию, Африку, Новый свет,сочинения итальянских, португальских, испанских путешественников, посетивших Азию, Африку, Новый свет, собранных итальянским географом Джованни Баттиста Раму-зио в трех томах «Плаваний и путешествий» (Navigationi et Viaggi, 1550–1559). А. Тевэ также имел возможность лично беседовать с такими путешественниками, как Жак Картье, Себастьян Кабот, Рене Лодоньер, Вильгань-он, Жан-Франсуа Роберваль. Использовал он также и неопубликованные документы, среди которых рукописные сочинения Р. Ло-доньера, францисканского миссионера Андрэ де Олмаса и так называемый «Кодекс Мендосы» [Schlesinger, Stabler, 1986. P. 26–33]. Таким образом, источниковая база А. Тевэ была в целом более высокого качества, чем у его предшественников, что было обусловлено, на наш взгляд, как методологическими установками автора, так и большей распространенностью и доступностью сочинений путешественников во второй половине XVI в.
Как мы уже говорили, в своей «Всеобщей космографии» А. Тевэ представил наиболее пространное описание Московии во французской этнографической литературе XVI в. Описывая нравы московитов, он игнорирует данные И. Боэмия, а также его последователей, С. Мюнстера и Ф. де Бель-форэ, о том, что московиты поголовно предаются пьянству и разврату, не почитая это за грехи [Мюнстер, 1997. C. 334; Самото-винский, 2013. C. 155]. Он предпочитает поверить С. Герберштейну и сообщает, что московский государь запрещает своим подданным употреблять вино, кроме нескольких раз в году; лишь своим телохранителям он разрешил предаваться обильным возлияниям круглогодично, построив для них специальный город неподалеку от Москвы – Naly (у С. Герберштейна в латинском варианте – Nali, слобода Наливки) [Thévet, 1858. P. 16] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 133]).
Охотно также А. Тевэ повторяет еще ряд утверждений С. Герберштейна, характеризующих нравы и порядки русских с невыгодной стороны. Он пишет о ненадежности московитов как торговых партнеров, которые «суть самые хитрые и лживые из всего северного региона» [Thévet, 1858. P. 20] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 128]), а также о «жалком» положении женщин, которые скрыты в домах и охраняются строже, чем у турок [Thévet, 1858. P. 148] (ср.: [Гербер-штейн, 1988. С. 113]). Упоминает он и о рабстве, пронизывающем всю социальную жизнь московитов, о практике продажи отцами собственных сыновей [Thévet, 1858. P. 148] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 113]). Лишь нравы жителей Новгорода Великого, который до недавнего времени был «свободным», являются относительным исключением. Новгородцы – «народ самый честный и учтивый, однако благодаря постоянным контактам они начинают облачаться в дикую природу тех, кто ими повелевает» [Thévet, 1858. P. 39] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 151]).
Относительно политического строя Московии, А. Тевэ выражался, как и С. Гербер-штейн, определенно: московиты находятся под властью «тиранов». Говоря о делах и личности великого князя Василия III, А. Тевэ сравнивает его с варварскими правителями «Африки и Эфиопии» [Thévet, 1858. P. 109] 8. «Этот герцог (duc) 9, – пишет он, – пользовался абсолютной властью, как над еписко- пами, так и над другими [подданными], распоряжаясь имуществом и жизнью каждого по своей прихоти…» [Thévet, 1858. P. 109– 110] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 75]). Упоминает А. Тевэ и о нынешнем царе Московии – Иване IV (хотя ошибочно именует Иваном III), характеризуя его как деспота, который «правит в настоящее время в такой же и схожей тирании, что и его предшественники» [Thévet, 1858. P. 110–111] 10. Но подданные, отмечает А. Тевэ, следуя за С. Герберштейном, не просто повинуются своим тиранам, но делают это охотно: «московиты столь любят и почитают своих герцогов, что утверждают, что воля их государя есть воля Божья, и все, что он совершает, исходит от Бога, и поэтому они называют его постельничим Бога и вершителем его правосудия и воли» [Thévet, 1858. P. 110] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 75]). Себя же подданные почитают рабами своего государя: «Все московиты, как бы знатны они ни были, называют себя холопами (clops), то есть рабами, герцога» [Thévet, 1858. P. 148] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 113]).
Подобное описание политических порядков Московии у А. Тевэ не является результатом простого механического заимствования информации из «Записок о Московии». А. Тевэ сознательно принял позицию С. Гер-берштейна относительно строя Московии в силу собственной системы политических ценностей. Хотя А. Тевэ не был политическим публицистом и мыслителем, ситуация Религиозных войн во Франции (1562–1598) побудила его занять однозначную позицию по вопросу о формах правления. Как представитель католической партии, человек, преданный Гизам, он в полной мере разделял идеи католиков-тираноборцев об условной, ограниченной природе власти монарха. Любую единоличную власть он отождествлял с «тиранией» – порочной и злокачественной формой правления, а короля Генриха III считал не только предателем «истинной веры», но и «тираном» [Lestringant, 1991. P. 253–255]. Обладая подобными политиче- скими взглядами, А. Тевэ не мог оценить политические порядки московитов иначе, чем это сделал С. Герберштейн. Таким образом, речь идет не о механическом заимствовании представлений, но об их сознательном восприятии и интериоризации в соответствии с собственной системой ценностей.
Нравы и политические порядки московитов для А. Тевэ не единственные маркеры их чуждости христианскому Западу. Во «Всеобщей космографии» Московия предстает как мир хотя и не лишенный письменной культуры, но все же слабо ее освоивший по сравнению с христианским Западом эпохи Возрождения. А. Тевэ уверен, что духовные лица на Руси плохо владеют византийским богословским наследием: они «не учены и не искушены в греках» [Thévet, 1858. P. 135]. О светских науках у московитах А. Тевэ даже не упоминает 11. Не менее явно, чем неразвитость письменной культуры, разрыв между двумя мирами проявляется в облике городов. Для человека западной культуры город был пространством, в котором господствует камень как строительный материал. На Руси иностранцев ждала другая картина – господство дерева в городском строительстве. Даже главный и самый крупный город Московии, местопребывание государя, был преимущественно деревянным. Это отмечали многие путешественники и писатели как факт необычный, контрастный по отношению к их привычному миру [Меховский, 1936. С. 114; Кампенский, 1997. С. 102; Йовий, 1997. С. 271; Гербер-штейн, 1988. С. 133] 12. А. Тевэ также пишет, что «основная часть» Москвы состоит из полностью или по большей части деревянных построек, за исключением нескольких храмов и комплекса кремля [Thévet, 1858. P. 17–18]. Имеется огромное количе- ство церквей, которые могли бы украсить город, но среди них «нет ни одной, которая бы была сложена из камня вся целиком, кроме здания дворца герцога, крепостных укреплений и стен» [Ibid. P. 18]. Кремль описывается у А. Тевэ как большой и великолепный комплекс каменных оборонительных сооружений и зданий, контрастирующий с окружающим городом. Поэтому он считает нужным пояснить причину такого несоответствия, и объяснение идет не на пользу московитам: «И не подумайте, что та постройка, ее описание или модель произошла из головы этих варваров, но это было сделано мастерами из Италии, которых герцог побудил приехать просьбами и обещаниями великой награды, в чем он их никоим образом не обманул» [Ibid. P. 18–19]. Для А. Тевэ московиты – варвары, не владеющие искусством каменной архитектуры, которым гордится западный мир. Возможно, С. Герберштейн был такого же мнения, но не выразил его эксплицитно и определения «варвары» в данном контексте не использовал. А. Тевэ высказался прямо, выразив тем самым свое личное отношение к предмету.
Как и его предшественники, А. Тевэ подчеркивает воинственность жителей Московии, описывает, опираясь на С. Гербер-штейна, организацию конного дворянского войска, манеру ведения войны, вооружение [Ibid. P. 150–153] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 114–117]). В целом, он не высокого мнения о военном искусстве русских, которое достойно сравнения с тактикой кочевых варварских племен Северной Африки: они идут в бой «безо всякого порядка, на манер арабов и мавров (sans aucun ordre, à la ma-niere des Arabes et Mores), как я видел в их стране, когда пересекал пустыни» [Thévet, 1858. P. 152]. Последняя фраза свидетельствует об активном отношении А. Тевэ к своему источнику, не о копировании информации, а о ее активном восприятии и дешифровке посредством сопоставления со своим опытом. И это не единичный случай. Описывая вооружение московских воинов, в частности говоря о защитном шлеме, А. Тевэ находит ближайший аналог ему у «дикарей Шотландии» (sauvages d’Escoce) [Ibid. P. 151] (это сравнение, конечно, также отсутствует у С. Герберштейна). Особо А. Тевэ отмечает, что московиты «не столь искусны и не столь хитроумны, как французы или испанцы» в использовании артиллерии при взятии городов, «мало используют искусства огня, с помощью которого можно нанести урон своему врагу» [Ibid. P. 152]. И это не удивительно, ведь об огнестрельном оружии они узнали совсем недавно, научившись создавать и использовать его в захваченной Ливонии или у пленных поляков и турок [Ibid. P. 153]. Очевидно, что московиты в глазах автора – воинственные, но безыскусные «варвары», только начавшие овладевать достижениями военной техники Запада.
Однако следует признать, что варварство жителей Московии все же для А. Тевэ относительно. Он не ставит московитов в один ряд с их северными соседями, обитающими около Сарматского (Балтийского) моря, которых он характеризует так: «Народы, населяющие этот регион, – природные варвары, грубые умом, очень необщительные, телосложения такого же, какое имеют скифы в Азии» [Ibid. P. 3]. Пример крайнего варварства являют и подданные московского князя – мордва, народ сколь воинственный и отважный, столь и примитивный: «они столь дики, что невозможно сказать, магометане они или идолопоклонники» [Ibid. P. 25] (ср.: [Меховский, 1936. С. 118; Фабри, 1997. С. 181, 191]).
Особое внимание католический священник А. Тевэ уделяет религии московитов. Его основной тезис, который он стремится доказать, таков: «Московит – не неверный, как о том кричат, но истинный христианин, что лучше всего подтверждается тем, что вытекает из его религии и строгого следования ей» [Thévet, 1858. P. 122]. А. Тевэ, конечно, старательно отмечает многочисленные «заблуждения», «которых придерживается этот бедный народ, будучи отделен от нашей Святой и Католической Церкви» [Ibid. P. 123]. Но акцент делает не на догматических и культовых различиях, а на благочестии русских: «Они служат мессу на своем языке, но с великой торжественностью и благоговением, повернувшись влево, против нашего обычая, как я видел в Иерусалиме» [Ibid. P. 144–145]. Особо подчеркивает он суровость жизни черного духовенства, подвижничество отшельников-столпников, и проповедников, сеющих истину среди диких народов с великой опасностью для жизни [Ibid. P. 124, 125, 143].
Вряд ли случайно А. Тевэ, вслед за С. Герберштейном, упоминает о том, что у московитов нет проповедников, толкующих
Священное писание, вместо них священники в воскресные дни читают пастве книги Нового завета и сочинения греческих отцов Церкви [Ibid. P.143] (ср.: [Герберштейн, 1988. С. 105]). Московия, в глазах А. Тевэ, сокрушавшегося о расколе христианского мира, была образцом религиозного единства и традиционализма, достигавшегося за счет недопущения свободного и публичного толкования Священного писания.
Благодушие А. Тевэ в отношении религиозной жизни московитов, его желание подчеркнуть их искреннюю набожность было обусловлено не только стремлением показать пример религиозного единства и благочестия христианскому Западу, но также и надеждой на «возвращение» московитов в лоно римско-католической церкви. «И мне кажется, – признается А. Тевэ, – было бы не очень трудно вернуть их, если бы они захотели услышать нашу Церковь» [Thévet, 1858. P. 135]. Делу поможет неискушенность московитов в богословских вопросах, ибо «они не столь учены и не искушены в греках, чтобы католики с их книгами не смогли привести их к истине» [Ibid. P. 135]. Вера А. Тевэ в возможность подчинения церкви московитов папе римскому имела основания в традиции, заложенной Павлом Йовием, Иоганном Фабри и Альбертом Кампенским, которые в 1520-е гг. увидели в Московии потенциального союзника в борьбе против турок и реальную кандидатуру на присоединение к римской пастве, поредевшей в ходе Реформации [Кудрявцев, 1997. С. 7– 11].
Можно ли вслед за С. Мундом назвать А. Тевэ лишь «автором-переписчиком»? Думается, что подобное определение не точно передает суть дела. Хотя А. Тевэ в своем видении Московии в целом не выходит за рамки представлений С. Герберштейна, все же это его собственное видение, его собственный образ, сформированный в процессе восприятия, осмысления, сравнения с личным опытом фактов, содержавшихся в чужом тексте. Образ этот достаточно противоречив. С одной стороны, Московия представлена как страна с сомнительными нравами и тираническим строем, рабством, пронизывающим всю социальную жизнь, низким уровнем письменной культуры, примитивным деревянным строительством и военным делом. А. Тевэ прямо именует жителей Московии «варварами» и неоднократно в процессе описания прибегает к нелестным сравнениям московитов с жителями Северной Африки и горцами Шотландии, т. е. с народами, не почитавшимися на христианском Западе цивилизованными. В то же время очевидно, что московиты, в глазах А. Тевэ, не были народом, разделявшим низшую ступень мировой культурной иерархии со звероподобными дикарями-идолопоклонниками Черной Африки, Нового света и окраин Европы. Более того, в отношении последних московиты выступали даже как некие «культурные герои», распространяя среди них человеческий образ жизни и христианство. Все это указывает на то, что Московия для А. Тевэ не относилась к миру крайней дикости и варварства, но также не была и достаточно цивилизованной, чтобы быть частью христианского Запада.
Думается, что именно такое промежуточное положение Московии делало ее востребованной в качестве идеального «зеркала», смотрясь в которое интеллектуал, отождествлявший себя с западной христианской цивилизацией (несмотря на религиозный раскол), мог культивировать в себе позитивную идентичность и чувство культурного превосходства. Мир дикарей-идолопоклонников подходил для этого не хуже, но вряд ли превосходство над ним, столь разительное и очевидное, могло удовлетворить европейца.
С другой стороны, на страницах «Всеобщей космографии» московиты иногда характеризуются позитивно, предстают как народ хотя и заблудший, но «истинно» христианский, чрезвычайно благочестивый, религиозно единый и держащийся веры предков. Очевидно, что А. Тевэ видел в далекой Московии то, чего так остро не хватало, по его мнению, христианскому Западу эпохи Реформации.
Но почему эта двойственность не воспринималась им как противоречие? Как в образе одного народа уживались отталкивающие нравы и подлинное христианское благочестие? Мы не беремся дать ответ на этот вопрос, но предполагаем, что его следует искать в сложной социальной идентичности автора. Ведь очевидно, что негативные оценки московитов исходят от А. Тевэ как представителя цивилизации Запада с его развитой культурой эпохи Возрождения; позитивные, как это ни парадоксально, – от
А. Тевэ – католика, увидевшего в религиозном быту московитов (но не в самом вероучении) близкие его сердцу и достойные подражания черты, надеявшегося на их присоединение к Риму. А. Тевэ как интеллектуал эпохи Возрождения исполнен чувства культурного превосходства над московитами, но как католик, взирающий на бедственное положение западного христианского мира, на упадок нравов и церковный раскол, он готов видеть в религиозной жизни культурно незрелого народа примеры для подражания.
Список литературы Благочестивые варвары под властью тиранов: московиты во "Всеобщей космографии" Андрэ Тевэ (1575 год)
- Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. И. Маленина, А. В. Назаренко. М.: Изд-во МГУ, 1988. 430 c.
- Йовий П. Книга о посольстве Василия, великого князя московского, к папе Клименту VII // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Пер. А. И. Малеина, О. Ф. Кудрявцева; сост., автор вводн. ст., примеч. и указ. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 217-306.
- Кампенский А. О Московии // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Пер. О. Ф. Кудрявцева, С. Г. Яковенко; сост., автор вводн. ст., примеч. и указ. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 63-134.
- Карпенко Е. К. Тевэ Андрэ // Культура Возрождения. Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. О. Ф. Кудрявцева. М., 2011. Т. 2, кн. 2: Р- Я, A, S. С. 302-303.
- Кудрявцев О. Ф. Жизнь за царя: русские в восприятии европейцев первой половины XVI в. // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Сост., автор вводн. ст., примеч. и указ. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 6-34.
- Ларин Б. А. Парижский словарь русского языка 1586 г. // Советское языкознание. Л., 1936. Т. 2. С. 65-90.
- Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / Введ., пер. и коммент. С. А. Аннинского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 288 c.
- Мюнстер С. Всеобщая космография // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Пер. И. И. Варьяш; сост., автор вводн. ст., примеч. и указ. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 321-345.
- Окунева О. В. «Cтоль успешно начатое дело, стоившее многих трудов..»: антарктическая Франция в Бразилии XVI в. // Латинская Америка. 2004. № 12. С. 51-66.
- Самотовинский Д. В. «Другой» между варварством и цивилизацией: московиты во «Всеобщей истории мира» Франсуа де Бельфорэ (1570) // Изв. высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Вып. 4. № 2. С. 154-160.
- Самотовинский Д. В. Мир в преддверии «последних времен»: современность в историческом сознании Робера Ле Рока, французского теолога XVI века // Исторический журнал - научные исследования. 2011. № 4. C. 48-57.
- Тевэ А. Всемирная космография / Пер. М. П. Алексеева // Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей: введение, тексты и комментарий. XIII-XVII вв. Иркутск, 1941. С. 138-148.
- Фабри И. Религия Московитов // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Пер., сост., автор вводн. ст., примеч. и указ. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 171-216.
- Campbell M. B. Wonder & Science: Imagining Worlds in Early Modern Europe. Ithaca: Cornell Univ. Press, 2004. 366 p.
- Lestringant F. André Thévet: Cosmographe des derniers Valois. Genève: Droz, 1991. 427 p.
- Lestringant F. Le Huguenot et le sauvage. L'Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps des guerres de Religion (1555-1589). Genève: Droz, 2004. 628 p.
- McLean M. A. The Cosmographia of Sebastian Münster: Describing the World in the Reformation. Aldershot: Ashgate, 2007. 378 p.
- Mund S. Orbis Russiarum: genèse et développement de la représentation du monde «russe» en Occident à la Renaissance. Genève: Droz, 2003. 598 p.
- Poe M. A People Born to Slavery: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476-1748. Ithaca: Cornell Univ. Press, 2000. 293 p.
- Schlesinger R., Stabler A. Introduction // André Thévet's North America: A Sixteenth-Century View / Eds. R. Schlesinger, A. Stabler. Kingston; Montreal: MQUP, 1986. P. 17-40.
- Short J. R. Making Space: Revisioning the World, 1475-1600. Syracuse: Syracuse Univ. Press, 2004. 185 p.
- Thévet A. Cosmographie moscovite / Recueillie et publiée par le prince Augustim Galitzin. P.: J. Techener, 1858. 181 p.
- Thévet A. La cosmographie universelle… illustrée de diverses figures des choses plus remarquables veuës par l'auteur. & incogneuës de noz anciens & modernes. P.: chez Guillaume Chaudiere, 1575. T. 1. 475 f.
- Tinguely F. L'écriture du Levant à la Renaissance: Enquête sur les voyageurs français dans L'Empire de Soliman le Magnifique. Genève: Droz, 2000. 302 p.