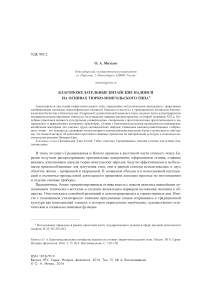Благопожелательные китайские надписи на огнивах тюрко-монгольского типа
Автор: Митько Олег Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Канонические тексты, ритуалы и эпиграфика Восточной Азии
Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Анализируется два огнива тюрко-монгольского типа, украшенные металлическими накладками с прорезными изображениями китайских иероглифических надписей. Надписи относятся к традиционным китайским благопожеланиям богатства и благополучия. В народной художественной живописи такие надписи часто иллюстрируются поздравительными картинами (няньхуа), получившими широкое распространение со второй половины XIX в. Подобные пожелания являются культурными универсалиями, связанными с архетипическими представлениями о материальных и нравственных жизненных ориентирах. Огнива с благопожелательными надписями изготавливались китайскими мастерами для элитных групп скотоводческих народов. Появление высокохудожественных «гибридных» огнив - это показатель специфики этнокультурного взаимодействия населения Китая с монголами и тибетцами, что свидетельствует об адаптации престижно-знаковых предметов их материальной культуры к социально-политическим реалиям Империи Цин.
Центральная азия, китай, тибет, монголы, средневековье, поясная сумочка для огнива, благопожелание
Короткий адрес: https://sciup.org/147219555
IDR: 147219555 | УДК: 903.2
Текст научной статьи Благопожелательные китайские надписи на огнивах тюрко-монгольского типа
В эпоху позднего Средневековья и Нового времени в восточной части степного пояса Евразии получили распространение оригинальные декоративно оформленные огнива, ставшие важным дополнением одежды тюрко-монгольских народов. Будучи эффективными и мобильными приспособлениями для получения огня, они в равной степени использовались в двух областях жизни – профанной и сакральной. В домашнем обиходе и в повседневной пастушеской и охотничье-промысловой деятельности применяли довольно простые по изготовлению и отделке огневые приборы.
Праздничные, богато орнаментированные огнива вместе с поясом являлись важнейшим дополнением этнического костюма и служили визуальным маркером положения человека в обществе. Они считались семейной реликвией и демонстрировались в торжественные дни. Вместе с понижением утилитарного значения праздничные огнива сохранились в традиционной культуре как комплексный элемент, в котором переплетены магические, художественно-эстетические и социально-знаковые функции.
⃰ Исследование проведено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (задание № 33.702.2014/К).
Митько О. А. Благопожелательные китайские надписи на огнивах тюрко-монгольского типа // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 120–128.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение © О. А. Митько, 2016
В XIX–XX вв. в Монголии, Сибири и Средней Азии изготовлением огнив занимались мастера по художественной обработке металлов. В связи с недостаточной изученностью отдельных региональных центров и школ декоративно-прикладного искусства их изделия слабо поддаются типологии. Можно лишь отметить композиционное своеобразие в оформлении отдельных деталей украшений, сочетающих древние мотивы степного орнаментализма с семантически насыщенной образностью ламаистского пантеона. Наиболее полное выражение эта художественная особенность получила в творчестве мастеров-ювелиров Монголии, Бурятии и Тывы [Соктоева, Бадмаева, 1971. С. 6–7; Вайнштейн, 1974. С. 105–107; Тумахани, 1974. С. 61; Кочешков, 1979. С. 28–29; Соктоева, 1988; Бабуева, 2004]. С конца XVIII в. во Внутренней Монголии также сложилось высокохудожественное кузнечное и ювелирное ремесленное производство и трудились местные мастера-серебрянники [Воyer, 1952. Р. 158–168].
В оформлении огневых приборов, изготавливавшихся по определенному технологическому стандарту, сохранялась древняя система знаков и кодов. Несмотря на сложность «прочтения текста», наличие этой системы позволяет отнести орнаментированные огнива к категории предметов с «наивысшим семиотическим статусом» [Байбурин, 1981. С. 216]. Во второй половине XIX в. на оформление огнив тюрко-монгольского типа повлияла еще одна очень мощная художественная традиция, привнесенная китайскими ремесленниками, которые не только существенно дополнили композиции и мотивы на украшениях кожаных сумочек, но и предложили новую символику. Декоративно-прикладные изделия китайских мастеров оказались востребованными в среде элитных групп скотоводческого населения.
Цель данной публикации – ввести в научный оборот два огневых прибора, перевод и интерпретацию украшающих эти изделия надписей, а также дать характеристику этнокультурных контактов населения Китая со скотоводческими народами.
Рассматриваемые огнива имеют наиболее распространенную среди огневых приборов тюрко-монгольского типа конструкцию и форму. Размеры первого из них составляют 8,6 × 7,4 см, материал: сталь, кожа и латунь. В верхней части сумочки закреплена ручка в виде фигурной скобы с ограничителями на концах. Она зафиксирована на выступающем креплении вместе с кольцом для подвесного ремня. Крепление для скобы и кольца железное, но расположенные на нем отверстия позволяют предположить, что к нему крепились накладные украшения из цветного металла, вероятнее всего утерянные.
На ударное лезвие прикреплена узкая латунная пластина, методом тиснения на нее нанесен рельефный орнамент, напоминающий стилизованное изображение ствола бамбука. Кожа сумочки темно-коричневого цвета со следами потертости и длительного использования. На крышке (передней, лицевой стороне) сумочки расположена фигурная накладка в виде рамки, изготовленной из цельного латунного листа и закрепленной с помощью четырех железных шпеньков. Вырезанный по ее периметру орнамент образован повторяющимися графическими элементами, составляющими геометрический узор. Центральная часть рамки заполнена ажурным растительным орнаментом из тонких побегов растений и шести пятилепестковых цветков, которые делят пространство на четыре зоны. Орнамент служит фоном, оттеняющим нанесенные на него четыре иероглифа – 金玉满堂 . Обратная сторона огнива не украшена.
Огниво находится в собрании Британского научного музея, в коллекции Брайанта и Мэйя, организованной в XIX в. владельцами фабрики по изготовлению спичек У. Брайантом и Ф. Мэ-йем [Beaver, 1985]. История поступления огнива в коллекцию неизвестна, а культурная атрибуция впервые была представлена Миллером Кристи, включившим его в обширный каталог музейной коллекции огневых приборов [Christy, 1926; 1928].
В данной статье фотография огнива (рис. 1) приведена из книги итальянских исследователей Витторио Кассиандра и Алессандро Чезати [Cassiandra, Cesati, 1996. Pl. 48, 253]. В их работе представлен и перевод китайской надписи на английский язык: «The temple enriched with gold and jewel», который авторы никак не прокомментировали [Ibid. P. 126]. Знакомство с оригинальной надписью 金玉满堂 (цзинь юй мань тан) позволило несколько уточнить ее содержательную часть, которая звучит как пожелание владельцу огнива: «чтобы дом был напол- нен золотом и нефритом» 1. На первый взгляд, отличие от английского перевода незначительно, однако, как нам кажется, предложенный вариант более точно передает образные компоненты, отражающие понятийные структуры, свойственные китайским фразеологическим выражениям.

Рис. 1. Огниво с китайской надписью из коллекции Брайант и Мэй в собрании Британского научного музея, Лондон (лицевая сторона, без масштаба). По: [Cassiandra, Cesati, 1996. Pl. 48. № 253])
Второе из рассматриваемых нами огнив в типологическом отношении аналогично первому. Его фотография и описание помещены на сайте «Oriental-Arms: Antique Arms and Armor», посвященном коллекционированию и продаже средневекового холодного оружия 2. Сайт не содержит научной информации, однако огнива тюрко-монгольского типа с китайскими надписями уже достаточно давно стали экспонатами частных коллекций, доступ к которым обычно закрыт. Поэтому любая новая находка представляет научный интерес.
Из помещенного на сайте краткого сопроводительного описания следует, что огниво происходит с территории Тибета. Его размеры составляют 10,16 × 7,62 см, они близки к размерам огнива из Британского научного музея. Аналогичны материал изготовления (сталь, кожа и латунь), форма стального ударного лезвия и система крепления ручки в виде фигурной скобы с ограничителями на концах и кольцом в верхней части сумочки. Орнаментация пластинки на ударном лезвии и по периметру закрепленной на крышке сумочки фигурной накладки также позволяет говорить о близости двух огнив. Отличия прослеживаются в декоре орнамента, заполняющего центральную часть рамки, который можно отнести к одному из вариантов общего для двух огнив изобразительного мотива: тонкие растительные побеги растений с четы- рехлепестковыми цветками образуют ажурный фон, на котором рельефно выделяются четыре иероглифических знака (рис. 2). Как и на первом огниве, обратная сторона сумочки не украшена.

Рис. 2. Огниво с китайской надписью из Тибета (лицевая сторона, без масштаба).
Надпись 财连银汉 (цай лянь Иньхань) гласит: «Пусть богатства текут, как Млечный Путь». Она относится к широко распространенной в китайской культуре универсалии благопоже-ланий, обладающих фразеологической и семантической пластичностью. Среди них главными были «три много» – «много лет», «много сыновей», «много богатства» [Васильев, 2001. С. 423]. Они являются своеобразным отражением менталитета китайцев, основу которого составляла практичность и прагматичность рационалистического мышления, предполагавшего выражение насущных требований в форме пожеланий.
Благопожелание «цай лянь инь хань» было широко распространено в Китае в конце позапрошлого столетия – не только в форме стандартного и во многом трафаретного фразеологического словосочетания, но и через символы, названия которых омофоничны базовым иероглифам. Очень часто они сопровождались иллюстрациями на новогодних открытках «няньхуа», одним из уникальных видов китайского народного искусства, изучение которого является отдельным направлением в мировом китаеведении [Виноградова, 1986; Рудова, 2003; Няньхуа, 2005]. Следует подчеркнуть, что традиция их изготовления сохранилась вплоть до настоящего времени [Гультяева, 2007].
На одной из праздничных открыток изображен характерный для китайской лубочной картины пухлый персонаж, собирающий монеты с денежного дерева, на котором растут гроздья серебряных лянов. Рисунок сопровождается все той же надписью «цай лянь Иньхань» (рис. 3). Одежда украшена изображениями цветков и бабочек, имеющих символическое значение и дополнительно усиливающих пожелание богатства и достатка еще и пожеланием «долгой жизни».

Рис. 3. Китайская новогодняя открытка (няньхуа) с благопожеланием.
Типологически близкое огниво хранится в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Закрепленная на передней стороне сумочки рамка также заполнена ажурным орнаментом из тонких побегов растений, создающих фон для иероглифической надписи 连生贵子 (лянь шэн гуй цзы). Ее можно перевести как пожелание «Пусть непрерывно рождаются драгоценные / благородные сыновья». Подобные благопожелания часто предназначались для жениха и невесты во время свадебного торжества [Митько, Ступан, 2011. С. 92].
Опубликовавшие огниво В. Кассиандра и А. Чезати отнесли его к XVIII в., однако не привели какие-либо аргументы в обоснование этой датировки [Cassiandra, Cesati, 1996. P. 126]. Действительно, в Западной Европе в конце XVIII – начале XIX в. возник всеобщий интерес к китайской культуре. На этой волне в художественном и декоративном искусстве возникает новый стиль – chinoiserie, на формирование которого во многом повлияли китайские импортные предметы домашнего обихода. Однако, на наш взгляд, рассматриваемые огнива с благопо-желательными надписями относятся ко времени не ранее конца второй половины XIX в.
Что касается огнива с территории Тибета, то оно, скорее всего, также относится к XIX в. Упоминания об огневых приборах тюрко-монгольского типа встречаются в целом ряде публикаций [Rockhill, 1891. Р. 143, 231; Козлов, 1949. С. 180; Hummel, 1953. Abb. 104, 105; Рерих, 1992; 1995. С. 339; Лазаревич, Молодин, Лабецкий, 2002. Рис. 29, 30]. Но лишь в одной из работ содержатся их датировка и указание на Восточный Тибет как территорию их наибольшего распространения [Zwalf, 1981. Аbb. 81].
Анализ оригинальных китайских надписей показывает, что, вероятнее всего, огнива могли быть изготовлены в одном из ремесленных центров, специализирующихся на изготовлении для скотоводческого населения украшений и социально-престижных предметов. Это предположение опирается на такие особенности огневых приборов, как типологическая близость (форма и общие размеры), материал и технические особенности изготовления отдельных элементов, стилистика художественного оформления благопожелательных надписей, их связь с няньхуа. Последняя из отмеченных особенностей имеет особое значение, поскольку орнаментация огнив является своеобразным отражением эстетических и этических принципов народной китайской культуры.
Уже отмечалось, что исследование огнив тюрко-монгольского типа с китайскими надписями носит разноплановый характер [Митько, Ван Пэн, Нулицзяцзы Байкэнь, 2014]. В жизненно необходимых по своему функциональному назначению приспособлениях для получения огня нашел отражение самобытный художественный язык, органично сочетающий орнаментальные мотивы кочевых народов с символизмом и образностью китайского искусства. При этом закономерно возникает вопрос, насколько глубоко эти образы и смыслы были восприняты и поняты в среде некитайского населения?
Дать однозначный ответ на этот вопрос вряд ли возможно. В. М. Алексеев, начавший изучать еще в самом начале XX в. народные картины, отметил, что они чрезвычайно сложны для понимания, а сопровождающие их надписи, «может быть, и читались, но понять их было невозможно» [Алексеев, 1966. С. 16]. Ему приходилось уговаривать китайских учителей, которых он нанимал, чтобы они расшифровывали изображения на картинах. Были случаи, когда В. М. Алексеев специально обращался к пожилым людям, знатокам народных сюжетов и символики, чтобы записать от них объяснения картин [Рифтин, 2012. С. 94]. Однако даже если смысл и образное содержание надписи на огнивах были не понятны для их владельцев, они могли восприниматься не как информативный источник, а как яркий художественно выполненный графический рисунок, включенный в изобразительный орнамент.
В то же время, в конце XIX в., многочисленные мастерские няньхуа уже принимали заказы на печать самых разных по жанру и содержанию картин, в том числе отвечающих художественным вкусам некитайского населения. Как правило, они были наполнены понятными для них символами и аллегориями [Виноградова, 2013]. Поэтому нельзя исключить, что для центральноазиатских скотоводов мог быть понятен общий смысл благопожелательных надписей, перенесенных на такие ключевые элементы их культуры, как престижные, праздничные огнива.
Список литературы Благопожелательные китайские надписи на огнивах тюрко-монгольского типа
- Алексеев В. М. Китайская народная картина: Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М.: ГРВЛ, 1966. 260 с.
- Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят: Учеб. пособ. Улан-Удэ: [б. и.], 2004. 228 с.
- Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология: Сб. МАЭ. Л.: Наука, 1981. Вып. 37. С. 215-226.
- Вайнштейн С. Я. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974. 224 с.
- Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Вост. лит., 2001. 488 с.
- Виноградова Т. И. Китайская народная картина - няньхуа: проблемы систематизации и периодизации // XXVII Науч. конф. «Общество и государство в Китае»: Тез. докл. М.: ГРВЛ, 1986. Ч. 2. С. 50-55.
- Виноградова Т. И. «Некитайские» китайские народные картины // Кюнеровский сборник: Материалы Восточноазиатских и Юго-Восточноазиатских исследований. СПб.: МАЭ РАН, 2013. Вып. 7: Этнография, фольклор, искусство, история, археология, музееведение, 2011- 2012. С. 32-38.
- Гультяева Г. С. Китайская народная картина няньхуа в современной художественной культуре (1980-1990-е гг.) // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2007. Т. 10, вып. 31. С. 46-50.
- Козлов П. К. Монголия и Кам. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1949. 439 с.
- Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX - середины XX века. М.: Наука, 1979. 208 с.
- Лазаревич О. В., Молодин В. И., Лабецкий П. П. Н. К. Рерих - археолог. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2002. 116 с.
- Митько О. А., Ван Пэн, Нулицзяцзы Байкэнь. Огнива тюрко-монгольского типа с китайскими благопожелательными надписями и символами // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 50-59.
- Митько О. А., Ступан Ю. С. Огниво с китайской надписью // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 4. С. 90-95.
- Няньхуа: Картины Старого Китая. М.: Гермитаж-Пресс, 2005. 64 с.
- Рерих Ю. Н. Звериный стиль у кочевников северного Тибета. М.: МЦР, 1992. 38 с.
- Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. Самара: АГНИ, 1995. 496 с.
- Рифтин Б. Л. Путешествие русского китаеведа в Китай // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 10: Востоковедение. С. 91-99.
- Рудова М. Л. Китайская народная картинка. СПб.: Аврора, 2003. 65 с.
- Соктоева И. И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии. Новосибирск: Наука, 1988. 106 с.
- Соктоева И. И., Бадмаева Р. Д. Бурятский художественный металл. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. 83 с.
- Тумахани А. В. Бурятское народное творчество. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. 112 с.
- Beaver P. The Match Makers: The Story of Bryant & May. L.: Henry Melland, 1985. 128 p.
- Воyer M. Mongol Jewelry: Researches on the Silver Jewelry collected by the First and Second Danish Central Asian Expeditions under the Leadership of Henning Haslund-Christensen 1936-1937 and 1938-1939.
- København: National museets skrifter, Ethnografisk Raekke, 1952. 223 p.
- Cassiandra V., Cesati A. Fire Steels. Torino: Umberto Allemandi & Co., 1996. 131 p.
- Christy M. The Brayant and May Museum of Fire-Making Appliances: Catalogue of Exhibits. L.: Joseph Causton & Sons, Ltd., 1926. viii, 255 p.
- Christy M. The Brayant and May Museum of Fire-Making Appliances: Catalogue of Exhibits, Supplement. L.: Joseph Causton & Sons, Ltd., 1928. [257]-331 p.
- Hummel S. Geschichte der Tibetischen Kunst. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1953. 123 S., 124 abb.
- Rockhill W. W. The Land of the Lamas: Notes of a Journey the Through China Mongolia and Tibet with Maps and Illustrations. N. Y.: The Century Co., 1891. viii, 399 p.
- Zwalf W. Heritage of Tibet. L.: British Museum Publications, 1981. 144 p.