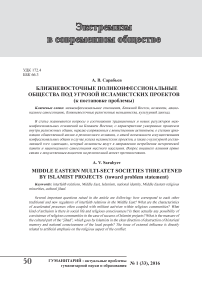Ближневосточные поликонфессиональные общества под угрозой исламистских проектов (к постановке проблемы)
Автор: Сарабьев Алексей Викторович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История. Экстремизм в современном обществе
Статья в выпуске: 1 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимаются вопросы о соотношении традиционных и новых регуляторов межконфессиональных отношений на Ближнем Востоке, о характеристике ускоренных процессов внутри религиозных общин, нередко сопряженных с воинственным активизмом, о степени архаизации общественной жизни и религиозного сознания, о самой возможности сосуществования конфессиональных общин в случае успеха исламистских проектов, а также о культурной составляющей того «джихада», который исламисты ведут в направлении истребления исторической памяти и национального самосознания местного населения. Вопрос внешнего влияния прямо связан с искусственным акцентом на религиозный аспект противостояния.
Межконфессиональные отношения, ближний восток, исламизм, национальное самосознание, ближневосточные религиозные меньшинства, культурный джихад
Короткий адрес: https://sciup.org/14720910
IDR: 14720910 | УДК: 172.4
Текст научной статьи Ближневосточные поликонфессиональные общества под угрозой исламистских проектов (к постановке проблемы)
Стремительные изменения в ближневосточном регионе в наибольшей степени затрагивают общественные связи и отношения, сложившиеся в трудных условиях разных исторических событий как регионального масштаба (например, этапы борьбы за независимость), так и странового (например, гражданские войны или межобщинные столкновения). Динамический характер социальных отношений этих сложных по составу обществ обусловливает значительный внутренний запас возможностей снятия возникающей остроты и потенциал внутренней регуляции общественных связей.
Линии наибольшего риска взрыва социальных противоречий, как правило, проходят по границам традиционных конфессиональных или этноконфессиональных общин. В контексте текущих разрушительных действий надэтнических объединений исламистов в Ираке и Сирии (прежде всего ИГ и ФН) и трансграничных конфликтов, порожденных уродливым сочетанием варварских методов вооруженной борьбы и апелляцией к божественному призыву за чистоту веры в сочетании с политическими амбициями, перспективной может оказаться формулировка вопросов, связанных с анализом изменений межконфессиональных отношений и самого состояния религиозных общин в условиях идущей волны агрессивного исламизма.
Прежде всего в прояснении нуждается вопрос, как можно охарактеризовать направление ускоренных процессов внутри отдельной религиозной общины, выносящих одно из возможных сакрально обусловленных представлений о государственном и общественном устройстве на все уровни социального взаимодействия. Причем это представление в деятельном плане сопряжено с воинственным активизмом. Является ли это откатом в развитии, архаизацией общественного или, может быть, напротив, акселерацией религиозного сознания?
Ответ на этот вопрос далеко не лежит на поверхности. Уже одна только неоднородность нынешнего исламского радикализма и связанные с ней противоречия между разными исламистскими проектами не позволяют сделать однозначный вывод. Можно предположить, что архаизация выступает в качестве одного из факторов радикализации групп внутри общины, сопровождает экстремальные проявления активизма, но не обязательно является первопричиной религиозного экстремизма. В своем проницательном исследовании на эту тему ведущий эксперт, профессор И. Д. Звягельская приходит к мысли, что «архаизация усиливается под воздействием дестабилизирующих факторов. В таком контексте она выступает не только как своего рода защитная реакция традиционного по своей природе общества, но и как альтернатива слишком сложной современной действительности» [2, с. 169]. Возможно также, что указанная социально-реактивная природа архаизации – не единственная, что наряду с ней имеют место и своего рода форсированная турбулентность массового сознания внутри отдельной общины в периоды нестабильности, а кроме того – стимулирующее внешнее воздействие.
В качестве подтверждения можно привести феномен перехода под знамена радикал-исламистов бывших иракских кадровых военных – суннитов, которые были, очевидно, фрустрированы резкой потерей позиций как в армии, так и в общественно-политической сфере, в период администрации Н. альМалики в Ираке. Видимо, совсем не апелляция к устоям «золотого века» ислама, а неудовлетворенность и растерянность, проявившиеся в результате «дебаасизации» и маргинализации части высоких слоев суннитской общины, могли их радикализировать и подтолкнуть к готовности к реваншу теперь уже под исламистскими лозунгами [7, с. 226].
Следующим важным вопросом теоретического порядка является вопрос соотношения традиционных и новых регуляторов межконфессиональных отношений в странах Ближнего Востока. Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания – на протяжении ХХ в. в этих странах конфессиональный баланс поддерживался (а где-то и устанавливался) разными, в том числе силовыми и административными методами. Но в основе своей отношения между суннитской, шиитской, православной, униатской, маронит-ской, григорианской, протестантской, ассирийской, ассиро-халдейской, яковитской, сиро-католической, алавитской, друзской, исмаилитской, езидской и другими община- ми на Ближнем Востоке традиционно носят конвенциональный характер. Это касается как территориального, хозяйственного, ресурсного, торгового аспектов, так и политического поля. Наиболее ярким примером в этом отношении является, конечно, ливанское государство, конфессиональная система в котором всегда основывалась на принципе противовесов. Существенную роль в межконфессиональных отношениях играет и клановая система, когда определенная кли-ентелла экономически, политически или из соображений тактики в большей или меньшей степени заинтересована в установлении тесных контактов с инославными общинами.
Теперь, перед лицом реальной угрозы истребления или выселения со своих земель джихадистами, представители разных общин вынуждены проявлять большую согласованность в действиях друг с другом. Это, пожалуй, один из важнейших новых регуляторов межконфессиональных отношений – антиджихадистская солидарность. Примеров тому множество. Громкое похищение православного и сиро-яковитского епископов, поиски которых до сих пор ведутся, еще больше сплотило паствы Православного Антиохийского патриархата и Сиро-Яковитской Церкви . Бедствия иракских Ассирийской Церкви Востока и Ассиро-Халдейской Церкви, паства которых в Ираке сократилась с начала века почти в 10 раз, привлекают внимание всего мира, заставляют сопоставлять эту трагедию с событиями 1915 г. – так называемым геноцидом сейфо, когда десятки тысяч ассирийцев и сирийцев-яковитов подверглись депортации и истреблению [см., например: 1] вместе с малоазийскими армянами.
Все еще насущной остается необходимость разобраться в «исламизмах» и «джихадах», в различии религиозно-идеологических оснований и предписанных методов борьбы за чистоту веры адептов разных исламистских проектов. В том сложном и пестром комплексе, что называют исламизмом (или такфиризмом, или джихадизмом), имеют место сильно разнящиеся по своим методам и подходам организации. Каким видят идеологи халифатизма положение конфессиональных меньшинств (т. е. всех общин, кроме несуннитской) в предполагаемом ими общественно-политическом устройстве? Го- товы ли они, в полном согласии с Кораном и Сунной, выступить защитниками всех, имеющих статус зимми? Допустимо ли в рамках ригористических ваххабитских проектов сосуществование суннитских, шиитских, друзских, алавитских и иных мусульманских общин, или же всем несуннитам однозначно уготован такфир? Попытки ответить на подобные вопросы могут подвести к научно обоснованным оценкам перспектив реализуемых сегодня на территориях Ирака и Сирии наднациональных суннитских проектов, которые пытаются распространится на Ливан, Синай и некоторые африканские страны. Перспектив, оценки которых могут быть даны в военно-политическом ключе – в смысле стратегии международных или региональных антитеррористических коалиций.
Немаловажным вопросом является и культурная составляющая того «джихада», который исламисты ведут в направлении истребления исторической памяти и национального самосознания в угоду универсалистскому нивелированному и выхолощенному пониманию мусульманской культуры. Яркие примеры тому – разграбление иракских музеев и недавние взрывы памятников древней Пальмиры в Сирии (храм Ба-алсамина, храм Бэла, погребальные башни, триумфальная арка) [см. подробнее: 5]. Эта «война с памятниками», очевидным образом, представляет собой попытку смены цивилизационных основ побежденных обществ, перезагрузки культурно-религиозной идентичности населения предполагаемых провинций халифата.
И все же остается вопрос – какое место в стратегии исламистов занимает эта культурная составляющая борьбы? Как далеко они могут зайти в нивелировании богатейшего наследия истории, особенностей традиции и культуры конфессиональных общин Ирака, Сирии и других территорий, являющихся для них целью? Работа над этими вопросами может, надо полагать, явиться стимулом привлечения к решению цивилизационной составляющей проблемы исламского экстремизма влиятельные региональные мусульманские организации, а также основанием для ясного артикулирования своей позиции православного, католического и протестантского мировых сообществ.
Наконец, серьезнейшим вопросом, способным приблизить к верной оценке позиций ключевых держав в отношении сдерживания халифатистов ИГ, Талибана, джихадистов ФН и многих других, может оказаться следующий: кому выгоден упор на религиозный аспект противостояния? Почему при достаточно прозрачных военно-стратегических целях участников «шиитской дуги» и их противников из суннитского лагеря (страны Аравии и Залива, в первую очередь) такой акцент делается на конфессиональной составляющей противоречий? Не является ли это классическим примером инструментализации религии?
В пользу положительного ответа на вопрос говорят факты поразительной периодичности и необъяснимой жестокости насилия с явным религиозным подтекстом. 5 ноября 2015 г. было взорвано здание в ливанском Эрсале (северо-восток Бекаа, у границы с Сирией), где проходило заседание «Комитета алимов Каламуна», при этом погибли восемь суннитских алимов [11], которые выступали посредниками в переговорах с ДН и ИГ о возвращении 25 ливанских военных, захваченных в плен в августе 2014 г., а также занимались распределением средств помощи сирийским беженцам в Ливане. Ранее, в марте 2013 г., произошло сразу два зверских убийства известных суннитских богословов и проповедников: в Дамаске во время взрыва в мечети погиб шейх Мухаммад Рамадан аль-Бути, а в Алеппо исламистами был растерзан шейх Хасан Сафиеддин, причем его голову водрузили на минарете, а обезображенное тело выставили на поругание возле мечети. В религиозном плане это были, видимо, акты исполнения приговора после вынесения такфира, однако на поверхности лежат более земные причины этих убийств – политические (проасадовская позиция хаты-бов аль-Бути и Сафиеддина; неудобная для исламистов нейтральная позиция шейхов, убитых в Эрсале), а также – вполне возможно – материальные. Абсолютно справедливо, что по отношению к религии, как пишет И. Д. Звягельская, «инструменталистский подход вполне отражает реалии политической борьбы в любой арабской стране, где религиозные или светские лозунги маскируют иные линии раскола» [2, с. 185].
Приведенные факты, где жертвы – известные суннитские деятели, показывают, что вполне обосновано сомнение в направленности «джихада» радикальных исламистов-суннитов исключительно против «неверных» (всех немусульман ) или «отступников» (шиитов, алавитов, друзов и др.). Вероятнее всего, усилия режиссеров масштабных исламистских проектов направлены против самого поликонфессионального устройства ближневосточных обществ, закрепленного на протяжении веков и освященного не только традицией, но и самими священными текстами мусульман.
Таким образом, поставленные вопросы сводятся по сути к следующему: какими могут оказаться «переформатированные» нынешние поликонфессиональные (и многонациональные) социумы ближневосточных государств в случае удачной реализации ха-лифатистских и джихадистских проектов и какие силы в глобальном масштабе заинтересованы в такой тектонической перестройке?
Перечисленные исследовательские проблемы представляются очень важными для разработки темы столкновения исторической поликонфессиональной структуры обществ Ближнего Востока с крайними проявлениями исламистского вызова современности. Тем не менее агрессивным исламизмом вызов поликонфессиональному социальному устройству далеко не исчерпывается. Остаются актуальными и другие течения, практикующие изоляционистский или, наоборот, универсалистский, или иные подходы: национализм, левые движения. Они изменяют свою повестку дня, трансформируют свои идеологии и методы политического действия. Постепенно набирают силу маргинальные гедонистические течения, не обязательно молодежные, у которых в будущем есть все шансы выйти в политическое поле и набирать поддержку в разных слоях населения. Все это ведет к тому, что традиционные межобщинные отношения будут изменяться, а сами общины могут в будущем менять свои очертания, может быть подобно тому, как, например, это происходило в период триумфального шествия арабского социализма. Националисты и арабские левые действуют в условиях критической угрозы со стороны разного рода исламистов, и это еще один фронт противостояния, пусть пока далеко не первостепенный.
Во всяком случае, реально работающих факторов дестабилизации поликонфес-сионального устройства социумов региона предостаточно, и это относится не только к так называемым глубоко разделенным обществам [см. подробнее: 4], но и к обществам с более низким уровнем социальной разобщенности.
Так или иначе, Ближний Восток уже никогда не будет прежним. Когда раны взаимных обид затянутся, мы, должно быть, станем свидетелями установления новых общественных связей и выстраивания новых межобщинных отношений в этом регионе.
Список литературы Ближневосточные поликонфессиональные общества под угрозой исламистских проектов (к постановке проблемы)
- Вспоминая забытый геноцид //Фонд Варнава, март-апрель 2015. -Режим доступа: http://barnabasfund.ru/wp-content/uploads/2015/04/Vspominaya-zabyityiy-genotsid.pdf
- Звягельская И. Д. Архаизация и конфликты на Ближнем Востоке/И. Д. Звягельская//Конфликты и войны ХХI века: Ближний Восток и Северная Африка. -М.: ИВ РАН, 2015.
- Левин З. И. Очерки природы исламизма/З. И. Левин. -М.: ИВ РАН, 2014.
- Наумкин В. В. Насильственные конфликты и внешнее вмешательство на Ближнем и Среднем Востоке через призму теории глубоко разделенных обществ (ТГРО) /В. В. Наумкин//Официальный сайт Института востоковедения РАН. -Режим доступа: http://ivran.ru/stati
- Сарабьев А. В. Кто удивлен варварством в Пальмире? /А. В. Сарабьев//Новое восточное обозрение. -Режим доступа: http://ru.journal-neo.org/2015/09/26/kto-udivlen-varvarstvom-v-pal-mire
- Ibrahim R. Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians/R. Ibrahim. -Washington: Regnegy Publ., 2013.
- Isakhan B. The Iraq Legacies and the Roots of the ‘Islamic State’/B. Isakhan//The Legacy of Iraq: From the 2003 War to the ‘Islamic State’/еd. by B. Isakhan. -Edinburgh: Edinburgh Univ. Press; New York: Oxford Univ. Press, 2015.
- Jawad R. Social Welfare and Religion in the Middle East: A Lebanese Perspective/R. Jawad. -Bristol: The Policy Press, 2009.
- PACE Recommendation 2055 (2014): «Threats against humanity posed by the terrorist group known as “IS”: violence against Christians and other religious or ethnic communities».
- PACE Resolution 2016 (2014): «Threats against humanity posed by the terrorist group known as “IS”: violence against Christians and other religious or ethnic communities».
- لبنان: قتلى وجرحى في انفجار في عرسال (Ливан: убитые и раненые в результате взрыва в Эрсале) //Аль-Маядин. -2015. 5 нояб. -Режим доступа: http://www.almayadeen.net/news/lebanon-rkENWk_gGUqG,qVHALuNfw