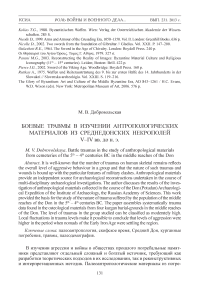Боевые травмы в изучении антропологических материалов из среднедонских некрополей V-IV вв. до н. э
Автор: Добровольская М.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 231, 2013 года.
Бесплатный доступ
Хорошо известно, что количество травм на человеческих скелетных остатках отражает общий уровень агрессивного поведения в группе и что характер таких травм и ран связан с особенностями военных столкновений. Антропологические материалы обеспечивают независимый источник археологических реконструкций, предпринятых в ходе многодисциплинарных археологических исследований. Автор обсуждает результаты исследования антропологических материалов, собранных в ходе Донской (Потуданской) археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук. Эта работа послужила основой для изучения характера травмы, которую испытывала популяция среднего течения Дона в 5-4 веках до нашей эры. В документе собраны систематически данные о травмах, обнаруженные в остеологических материалах из четырех курганских могильников в среднем течении Дона. Уровень травм в изучаемой группе может быть классифицирован как умеренно высокий. Локальные колебания уровней травматизма позволяют сделать вывод о том, что уровни агрессии были выше в период, когда кочевники раннего железного века оседали в регионе.
Палеоантропология, скифское время, средний дон, курганные погребения, травмы, палеодемография
Короткий адрес: https://sciup.org/14328568
IDR: 14328568
Текст научной статьи Боевые травмы в изучении антропологических материалов из среднедонских некрополей V-IV вв. до н. э
В изучении агрессии и войны в обществах прошлого погребальные памятники представляют отдельный сложный и богатый источник, требующий как разработки теоретических подходов в их исследовании, так и реконструктивных и интерпретационных методик. Палеоантропологические материалы из погре- бальных памятников чрезвычайно важны для изучения характера, масштаба, формы агрессии. Они необходимы при выводах о непосредственном участии тех или иных групп населения (индивидов) в боевых действиях. Без проработки антропологических материалов большинство выводов такого рода вообще не могут быть сделаны.
Широко известно, что количество травм на скелетных останках людей отражает общий уровень агрессивности в группе, а характер травм и ранений связан с особенностями военных столкновений ( Ortner, Putchar , 1981; Бужилова , 1995; 2005; 2010; Добровольская , 2009; Рохлин , 1965). Поэтому антропологические материалы являются независимым источником в археологических реконструкциях, выполняемых в ходе комплексных археологических исследований. В частности, изучение травм с целью реконструкции исторического контекста было продолжено в русле научного направления «Историческая экология человека» (1998), возникшего и развиваемого в группе физической антропологии Института археологии РАН.
На основании этих методологических разработок проведено специальное исследование, посвященное выявлению и описанию травм и ранений на скелетных материалах из курганных погребений скифского времени на Среднем Дону. Как известно, скифские племена вошли в историю как одни из наиболее жестоких и воинственных. Их жизнь в основном была подчинена завоеванию других народов и получению военной добычи. Вероятно, будет верным считать, что военное ремесло было своего рода основой системы существования, способствовало развитию и процветанию обществ кочевников раннего железного века. И напротив, отсутствие активных завоеваний могло способствовать угасанию этих воинственных обществ.
Методы индивидуальной биоархеологической реконструкции, основанные на достижениях судебной медицины и криминалистики, дают возможность характеризовать:
-
1) оружие или предмет, которым была нанесена травма (форму и размер тупого оружия, форму и размер острого оружия, форму поражающей поверхности и пр.);
-
2) положение того, кто наносил травму, и того, кому эта травма была нанесена;
-
3) последствия, к которым привела травма: была ли она причиной смерти или произошло ее заживление;
-
4) как долго человек жил после получения травмы, насколько благополучно шло ее заживление и моги ли последствия травмы повлиять на состояние здоровья и работоспособность человека.
В данной работе мы обращаемся к результатам исследования антропологических материалов, накопленных с 1993 по 2010 г. Донской (Потуданской) экспедицией ИА РАН, проводившей полевые исследования под руководством В.И. Гуляева. В результате многолетних систематических сборов палеоантропологических материалов любой, даже фрагментарной, сохранности составлена представительная серия, насчитывающая более ста индивидов1.
Это дает основу для изучения характера травм у населения, погребавшего своих соплеменников под курганными насыпями в V–IV вв. до н. э. на Среднем Дону. Ранее промежуточные результаты исследования антропологических материалов из этих памятников неоднократно публиковались ( Козловская, Зенкевич , 2001. С. 157; Добровольская , 2004. С. 69), однако отдельной публикации, посвященной изучению травм, до сих пор не было.
В настоящее время раскопки наиболее масштабного некрополя – Колбин-ского – завершены, поэтому мы посчитали возможным провести обобщающее исследование. Материалы из менее численно представительных некрополей Терновый I и Горки I были привлечены как сравнительные. Также использована часть материалов из некрополя Дуровка (Белгородская обл.), любезно предоставленные автором раскопок А.И. Пузиковой2 группе физической антропологии ИА РАН. Поэтому у нас есть основание судить не о локальных характеристиках травм населения, а о региональных. Этот регион может быть обозначен как восточные лесостепные пределы распространения племен Европейской Скифии.
В исследовании использованы материалы из курганных некрополей: Терновый I (12 индивидов), Колбино I (75 индивидов), Горки I (7 индивидов), Дуровка (7 индивидов). Краткая характеристика конкретных травматических повреждений приведена в табл. 1.
Приведенные сведения позволяют нам оценить, преобладание какого вида травм и ранений характерно для каждого из некрополей и для региона в целом.
Встречаемость повреждений различных отделов скелета (табл. 2) указывает на то, что наиболее частыми были травмы и ранения черепа, прежде всего лицевой области. Это свидетельствует об участии в контактном бою «лицом к лицу». Отметим среди прочих удар, который наносился снизу вверх и приводил к сочетанной травме зубов, мягких тканей лица, костей носа. Возможно, следует относить этот тип травм к боевым, а не к бытовым, т. к. удар производился не рукой, а твердым (возможно, металлическим) орудием. Ранения и травмы головы встречаются в трех из четырех некрополей. В серии из могильника Горки и Дуровка этот вид травм не отмечен.
В серии из некрополя Колбино I обнаружены следы ранения стрелой в правую лопатку со спины, вызвавшего активный воспалительный процесс, развивавшийся на протяжении нескольких месяцев (рис. 1), в результате которого, вероятно, индивид и скончался. Отметим, что оба ранения стрелой получены сзади, т. е. в ситуации не рукопашной схватки, а либо неожиданного нападения, либо преследования.
Также встречаются травмы и ранения конечностей. К сожалению, мы не всегда можем идентифицировать заросший перелом и травму, нанесенную боевым оружием. Особенно сложны такие диагнозы в тех случаях, когда заживление давней травмы (ранения) было отягощено длительным воспалительным процессом. Следующими по частоте встречаемости оказались следы повреждений корпуса. Большая часть поражений корпуса связана с боевыми ранениями.
Таблица 1. Травматические повреждения на скелетах из курганных погребений Среднего Дона V–IV вв. до н. э.
|
Могильник, погребение |
Пол, возраст |
Травма |
|
Терновый I, курган 7 |
Мужчина 30–39 лет |
На правой части лобной кости в надглазничной области обнаружена давняя зажившая травма, нанесенная, вероятно, тупым предметом. Заживление прошло благополучно, хотя после нанесения травмы в области удара имел место локальный воспалительный процесс |
|
Терновый I, курган 9 |
Мужчина 30–35 лет |
Ранение, оставившее след на вентральной поверхности поясничного позвонка. Без следов заживления. Нанесено режущим оружием. Индивид получил глубокое ранение в брюшную полость (рис. 1). Вероятно, оно и явилось причиной смерти |
|
Терновый I, курган 12 |
Мужчина 30–39 лет |
Зажившее ранение в надглазничной области справа. Вероятно, ранение нанесено режущим орудием. Заживление прошло благополучно. У этого же индивида, возможно, была давняя травма в области правого виска. Заживление прошло также благополучно. Для окончательного диагноза необходимо рентгенографирование травмированных участков |
|
Колбино I, курган 3 |
Мужчина 30–39 лет |
Старый перелом верхней трети левой плечевой кости. Заживление прошло успешно, хотя неправильное срастание привело к последующей деформации плечевого и локтевого суставов. Значительное развитие функционального костного рельефа в местах прикрепления мышц свидетельствует о том, что полученная травма не помешала индивиду активно использовать левую руку. |
|
Колбино I, курган 7 |
Мужчина и женщина зрелых лет (старше 45) |
У мужчины, возможно, пролом левой височной кости, который был причиной смерти |
|
Колбино I, курган 8 |
Женщина 40–49 лет |
Следы зажившего перелома левой ключицы. Заживление прошло успешно, хотя кость деформирована. Также была травмирована правая верхнечелюстная кость. Реконструировать характер нанесения травмы трудно, т. к. заживление прошло уже давно. Характер патологических изменений указывает на то, что травмы правой ключицы и правой стороны нижней челюсти получены одновременно |
|
Колбино I, курган 11 |
В погребальной камере – останки 3 индивидов: мужчины, женщины и ребенка. Травма обнаружена у женщины 40–49 лет |
На вентральной поверхности грудного позвонка обнаружен разрез, нанесенный режущим оружием. Вероятно, это ранение стало причиной смерти, т. к. оно было глубоким, проникающим в брюшную полость. На скелете мужчины также обнаружены следы травм. Правая большеберцовая кость со следами зажившей травмы. Голень могла быть сломана, а также могла быть разрублена боевым оружием. Обширный периостит на диафизе кости свидетельствует о том, что полностью качество функционирования конечности не восстановилось |
|
Колбино I, курган 15 |
В погребальной камере захоронены трое взрослых мужчин (?) |
Компрессионный перелом грудного позвонка. Заживление прошло, однако форма позвоночного столба сильно изменена. Кроме того, лицо этого человека было сильно травмировано. Сильный удар, вероятно колющим оружием, был нанесен снизу вверх, в результате чего сломан верхний правый клык, внешний верхний резец, носовая ость. Заживление шло с сильным воспалением, в результате которого формировались свищевые ходы в полость носа |
|
Колбино I, курган 29 |
Парное женское погребение |
У девушки (около 15 лет) заживший перелом носовых костей |
|
Колбино I, курган 33 |
Мужчина 30–39 лет |
Перелом первого верхнего правого моляра, перелом носовых костей. Травма получена в результате резкого удара (колющим орудием или тупым предметом?) снизу вверх. На нижнем эпифизе бедренной кости отмечен след ранения, нанесенного режущим орудием. Заживление раны прошло успешно |
Таблица 1 (окончание)
|
Колбино I, курган 36 |
Погребение 5 индивидов: 2 мужчин, 2 женщин и ребенка. Травмы – у мужчины в возрасте 45–54 лет |
Отмечены у мужчины: непроникающее ранение бронзовой стрелой в затылочную кость черепа и проникающее ранение в полость грудной клетки со спины. Ранение также было нанесено стрелой в правую лопатку со спины. В результате начался активный воспалительный процесс, в результате которого, вероятно, индивид и скончался (рис. 2) |
|
Колбино I, курган 41 |
Парное погребение взрослых женщин |
На лобной кости женщины 35–49 лет отмечены следы непроникающей черепной травмы с успешным заживлением |
|
Горки 1, курган 16, погребение 1 |
Мужчина 25–34 лет |
На правой плечевой кости выражены последствия перелома верхней части метафиза. Перелом прошел со смещением, а неправильное зарастание привело к искривлению и деформации, укорочению всей кости. Заживление не было отягощено воспалительным процессом |
|
Дуровка, курган 23 |
Мужчина 25–34 лет |
На теле грудины обнаружен пролом внешнего компактного слоя кости. Травма была нанесена тупым орудием округлой формы, 1–1,5 см в диаметре. Удар нанесен сверху вниз справа налево. Следов заживления не обнаружено. Недостаточная сохранность костей черепа не позволяет воссоздать достоверную картину, однако возможно, что кроме ранения в грудь индивид получил черепную травму. Просматриваются следы возможного пролома правой теменной кости, совершенного тупым предметом диаметром около 1,5 см. Такая рана могла стать причиной смерти. О том, что индивид скончался от ранений, свидетельствует и то, что ранение грудины – без следов заживления |
Безусловно, важен вопрос реконструкции ситуации получения боевой травмы. Так, смертельные ранения в брюшную полость и область грудной клетки были нанесены практически горизонтально, т. е. противники располагались лицом к лицу. Два ранения в область лица с переломом передних зубов и носовых костей указывают на то, что удары наносились снизу вверх. Что могло быть при столкновении конного и пешего воинов. Обращают на себя внимание частые случаи поражений голени. Если причиной было боевое ранение, то оно могло быть получено при столкновении всадника с пешим воином. Однако реконструировать причины травм голени удается не всегда. Одно ранение было нанесено в область груди сверху вниз, что наиболее вероятно при столкновении всадника с пешим воином.
Как следует из наших описаний, некоторые травмы – без следов заживления. Основываясь на этом, мы делаем вывод о том, что смерть последовала в самом скором времени после получения травмы (ранения). Среди всех просмотренных нами костяков таких случаев 4 (3). Большая же часть полученных травм и ранений заживала более или менее успешно. Только один индивид, вероятно, скончался спустя некоторое время после ранения стрелой от острого воспалительного процесса. Ответ на вопрос о том, что было причиной заживлений – природное здоровье или навыки врачевания у скифов, остается открытым. Каких-либо прямых доказательств использования лечебных средств нами не найдено.
Многочисленность изученных материалов позволяет нам составить представление о частоте травм и ранений в различных половозрастных группах. Как мы уже упоминали, подавляющее большинство индивидов с ранениями – мужчины.
Таблица 2. Локализация ранений и травм
|
Некрополь |
Перелом конечности |
Ранение конечности |
Ранение в голову или травма головы |
Ранение в корпус |
Иные виды травм |
|
Терновый I |
0/7 |
0/7 |
(2/7) 16,6% |
(1/12) 8,3% |
0/12 |
|
Колбино I |
(1/75) 1,3% |
(2/75) 2,6% |
(7/75) 9,3% |
(3/75) 4% |
(1/75) 1,3% |
|
Горки I |
(1/7) 25% |
(1/7) 8,3% |
0/7 |
0/7 |
0/7 |
|
Дуровка |
0/7 |
0/7 |
(1/7?) 14,3% |
(1/7) 14,3% |
0/7 |
|
Всего |
(4/106) 3,8% |
(3/106) 2,8% |
(10/106) 9,4% |
(5/106) 4,7% |
(1/106) 1% |
Важно отметить, что в исследованных некрополях неоднократно были обнаружены останки молодых женщин без следов значительных физических нагрузок на скелетах.
Вопрос о женщинах-воительницах – отдельная тема, активно обсуждаемая в литературе (см., напр.: Фиалко , 2005. С. 242; Берсенева , 2011. С. 72). Исследователи солидарны во мнении о том, что в могильниках кочевников раннего железного века часто встречаются погребения женщин с оружием. Согласно мнению Е.Е. Фиалко, доля таких погребений составляет около 25% ( Фиалко , 2005. С. 244). Автор приходит к мнению, что все женские погребения с оружием – воинские. Наши исследования показали, что, возможно, в захоронениях с оружием не всегда присутствуют останки женщин-воительниц. Во всяком случае, каждый случай требует отдельного разбирательства.
Напомним, что вопрос об участии женской половины общества в боевых столкновениях остается до сих пор недостаточно разработанным. Присутствие в женском захоронении оружия не может быть достаточным основанием для причисления погребенной к воинам. Требуются дополнительные доказательства.
Примечательно, что серьезные травмы, которые могли быть получены во время боя (Колбино I, курганы 8 и 11), отмечены у женщин старшего возраста (старше 40 лет). В коллективном погребении кургана 5 могильника Колби-но I, где обнаружены пластины железного панциря, пол взрослых индивидов по морфологическим критериям установить было трудно (что само по себе служит косвенным свидетельством нарушения нормального гормонального статуса), однако предположительно это женщины в возрасте старше 40 лет. У одной из них отмечены признаки лобного гиперостоза ( Бужилова, Козловская , 2001. С. 197), который мог быть связан с синдромом Морганьи – Стюарта – Мореля ( Исмагилов и др. , 1994. С. 73).
Боевые ранения встречены у мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, однако наиболее часто отмечены травмы и ранения у мужчин четвертого десятилетия жизни. Это хорошо согласуется с результатами проведенного ранее демографического исследования, показавшего, что именно это десятилетие связано с наибольшим риском смерти. То обстоятельство, что средний возраст смерти и возраст наибольшего риска травмирования совпадают, позволяет нам предположить, что существенную долю среди прочих причин смерти занимали именно травмы и ранения.

Рис. 1. Терновый I, курган 9. Мужчина 30–35 лет. Следы повреждения тела позвонка
Еще один аспект биоар-хеологических реконструкций связан с сопряженным анализом датировок могильников и особенностей травм. В группе из некрополя Терновый I средняя продолжительность жизни мужчин не превышает 30 лет, что следует считать крайне неблагополучным показателем. Высокая частота встречаемости травм у мужчин указывает на высокий уровень агрессии в группе. Уместно будет напомнить, что этот некрополь датируется несколько более ранним, чем Колбино I, временем – концом V – первой половиной IV в. до н. э. (Гуляев, 2001. С. 31). Возможно, что высокий уровень травматизма связан с тем, что скифское население, осваивавшее новые для себя территории, сталкивалось с активным сопротивлением местного населения или, напротив, вынуждено было отступить на периферию ареала скиф- ских племен в результате повышения уровня агрессии в регионе их прежнего обитания. Уровень травматизма в группах из некрополей Колбино и Дуровка примерно одинаков (около 14%).
Чтобы оценить степень агрессивности среднедонского населения скифско- го времени, важно сопоставить наши данные с аналогичными синхронными по другим регионам.
Раннескифский некрополь Новозаведенное II, расположенный в Ставропольском крае, был открыт и исследован Краснознаменской экспедицией ИА АН СССР в 1980-е гг. ( Петренко , 1989. С. 216). Палеоантропологические материалы этого памятника были подробно изучены М.Б. Медниковой (2002. С. 138). Характерно, что боевых травм среди прочих патологических проявлений не обнаружено. Это обстоятельство в сочетании с хорошей сохранностью материала и ранней смертностью среди взрослых (менее 30 лет) указывает на специфику образа жизни данной группы, отличную от большинства скифских более позднего времени.

Рис. 2. Колбино I, курган 36, погребение 5. Мужчина 45–54 лет. След от ранения в область лопатки с проявлениями воспалительного процесса
Комплексное исследование палеоантропологических материалов из памятников круга скифских культур с территории Тувы было осуществлено Э. Мерфи (Ирландия) (Murphy, 2003). Некрополь Аймырлыг, расположенный на территории Тувы, был исследован Саяно-Тувинской экспедицией ИИМК (Петербург) в 1960–1980-е гг. Многочисленные антропологические материалы из погребений скифского и гунно-сарматского времени позволили обратиться к исследованию уровня агрессивности у населения Южной Сибири в раннем железном веке. Автору были доступны останки 76 индивидов из погребений скифского времени. Сохранность скелетов различна, ряд индивидов
представлен только черепами, что существенно затрудняет наши оценки частоты встречаемости травм (частоты травм и ранений могут быть занижены).
Э. Мерфи отмечает, что общий уровень травматизма у мужчин гораздо выше, чем у женщин (Ibid. P. 89). Отдельно ею выявлены и описаны боевые травмы. Обнаружены 12 черепных ранений чеканом, нанесенные по своду черепа. Все они были получены мужчинами (один индивид под вопросом). Три индивида получили ранения мечом. Двое из них – множественные ранения в голову, конечности, корпус. Все упомянутые ранения – без следов заживления, поэтому мы заключаем, что они явились причиной смерти. Таким образом, мы можем констатировать высокий уровень агрессии в группе (около 20%), причем большая численность обследованной серии обеспечивает достоверность сведений. Важно отметить, что боевые ранения получены только мужчинами.
Т.А. Чикишевой было осуществлено разностороннее исследование антропологических материалов из погребальных памятников пазырыкской культуры Горного Алтая (Чикишева, 2003). Материалы, публикуемые автором, датируются V–III вв. до н. э. Автор публикует и результаты учета переломов и ударов – совместимых с жизнью и не совместимых. Частота травм, совместимых с жизнью, довольно нестабильна. Она варьирует от выборки к выборке от 0 до 25% (Там же. С. 76). Возможно, столь значительная локальная изменчивость связана с численностями исследованных групп. Частота травм, не совместимых с жизнью, также изменяется в пределах от 0 до 25%. Если отвлечься от процентов, то окажется, что у пяти индивидов выявлены зажившие травмы и у двух – смертельные. Общая численность всех групп – 68 индивидов. Таким образом, частота встречаемости заживших травм – порядка 7%, а смертельных – около 3%. Это дает основание предполагать, что уровень травматизма в группах носителей традиций пазырыкской культуры был достаточно невысок, что указывает на общую невысокую агрессивность среди кочевых сообществ Горного Алтая.
Проведение широких сопоставлений характера травматизма у населения Среднего Дона скифского времени и других регионов скифо-сибирского мира, а также населения классического города, позволяет подвести итоги.
Уровень травматизма в изученных группах может быть квалифицирован как умеренно высокий. Он превышает аналогичные показатели в среде пазырык-ского населения, но несколько ниже, чем в группах наиболее восточных представителей скифо-сибирских культур.
Таким образом, уровень травматизма в группах среднедонского населения не выходит за пределы межгрупповой изменчивости в масштабе кочевников раннего железного века. Среди серий из скифских некрополей нет групп с экстремально высокими частотами травматизма. К разряду таковых следует отнести позднесарматские группы, отличавшиеся исключительной агрессивностью. Так, на материалах позднесарматских некрополей II–IV вв. н. э. бассейна Есауловского Аксая (Волгоградская обл., Октябрьский р-н) Е.В. Перерва выявил повышенный уровень травматизма ( Перерва , 2002. С. 149). Им оценивались в полном объеме черепные травмы различного происхождения, частота встречаемости которых достигает почти 45% среди взрослых мужчин. Среди 39 мужчин у пятерых были обнаружены следы рубленых ранений, что составляет 13%. Частью эти травмы были залечены. Безусловно, такая структура травматизма в группе однозначно указывает на военизированный характер населения и высокий уровень агрессии. Также о «жизни в войне» свидетельствуют индивидуальные случаи из сарматских погребений, собранные А.П. Бужиловой (2005. С. 197).
Как показали предшествующие биоархеологические исследования, описывать средние величины частот встречаемости травм для населения территорий неправомерно. Показатели травматизма чрезвычайно вариабельны, т. к. зависят от социальной специфики группы. Так, по данным А.П. Бужиловой, средние показатели частоты встречаемости травм у мужчин-горожан могут сильно варьировать. Например, частота черепных травм у мужчин из средневекового Любеча составляет около 6%, в то время как у мужчин из Витичева приближается к 24% ( Бужилова , 1995. С. 100). Выше мы цитировали данные Т.А. Чикишевой, которая также фиксирует огромный размах частот встречаемости травм в различных некрополях Горного Алтая.
Собранные и систематизированные к настоящему времени палеоантропологические материалы свидетельствуют о том, что в группах военизированного населения наблюдается высокий процент мужского травматизма. Этот показатель превышает 20%, в редких случаях приближается к 50%3. Сравнительный анализ травматизма в группах Среднего Дона и других районов степного коридора Евразии выявил неоднородность уровня травматических повреждений. Если для серий из могильников Колбино I, Дуровка, Горки I он в целом умеренный, то в серии из некрополя Терновый наблюдается тенденция к повышению уровня травматизма.
Итак, анализ травм на скелетных останках из погребений среднедонских некрополей позволил нам получить независимую объективную информацию об уровне агрессивности в обществе. Е.И. Савченко при характеристике вооружения среднедонских кочевых племен скифского времени отмечал высокую частоту находок таких редких видов оборонительного и наступательного вооружения, как мечи и панцири, что свидетельствует о значительной военной активности населения ( Савченко , 2004. С. 275).
Уровень травматизма в изученных группах может быть квалифицирован как умеренно высокий. Локальная изменчивость частоты встречаемости травм позволяет формулировать гипотезу о повышенной агрессивности в группе населения, хоронившей своих соплеменников под насыпями некрополя Терновый I, который ассоциируется со временем заселения этого региона кочевниками раннего железного века. Более низкий уровень травматизма определен для группы из погребений Колбино I. Возможно, такой уровень травматизма отвечает более стабильному периоду существования скифского населения на этих территориях.
Список литературы Боевые травмы в изучении антропологических материалов из среднедонских некрополей V-IV вв. до н. э
- Берсенева Н.А., 2011. Женские погребения с оружием: реалии жизни или отображение социальной идентичности? (по материалам саргатской культуры)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1 (14). Тюмень. С. 72-82.
- Бужилова А.П., 1995. Древнее население: палеопатологические аспекты исследования. М.: ИА РАН. 189 с.
- Бужилова А.П., 2005. Homo sapiens: История болезни. М.: Языки славянских культур. 320 с.
- Бужилова А.П., 2010. К вопросу об информативности исследований коллективных погребений//КСИА. Вып. 224. С. 77-85.
- Бужилова А.П., Козловская М.В., 2001. Проблема полового диморфизма в связи с гормональными патологическими изменениями по материалам могильника Колбино-I//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 196-201.
- Гуляев В.И., 2001. Общие проблемы археологии Среднего Дона скифского времени//Там же. С. 18-52.
- Добровольская М.В., 2004. К антропологии населения Среднего Дона в скифское время//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской (Потуданской) экспедиции ИА РАН, 2001-2003 гг/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 69-106.
- Добровольская М.В., 2009. Травматические повреждения на скелетных останках людей из курганных некрополей Среднего Дона//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 186-197.
- Исмагилов М.Ф., Хасанова Д.Р., Галимуллина З.А., Шарашенидзе Д.М., 1994. Синдром Морганьи -Стюарта -Мореля//Неврологический вестник. Т. XXVI. Вып. 3-4. С. 72-76.
- Историческая экология человека: Методика биологических исследований/Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Козловская, М.Б. Медникова. М.: ИА РАН, 1998. 260 с.
- Козловская М.В., Зенкевич Ю.В., 2001. Некоторые итоги изучения антропологического материала из курганов скифского времени могильника «Терновое I -Колбино I»//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 157-171.
- Медникова М.Б., 2002. Антропология ранних скифов: Могильник Новозаведенное-II//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии/Отв. ред. А.П. Бужилова. № 1-2. С. 128-140.
- Перерва Е.В., 2002. Палеопатология поздних сарматов из могильников Есауловского Аксая//Там же. С. 141-151.
- Петренко В.Г., 1989. Скифы на Северном Кавказе//Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.: Наука. С. 216-223. (Археология СССР/Под общ. ред. Б.А. Рыбакова.)
- Рохлин Д.Г., 1965. Болезни древних людей. М.; Л.: Наука. 304 с.
- Савченко Е.И., 2004. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской (Потуданской) экспедиции ИА РАН, 2001-2003 гг./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 151-277.
- Фиалко Е.Е., 2005. Скифские амазонки по письменным и археологическим источникам//Боспор-ский феномен: Проблемы соотношения письменных и археологических источников: Мат-лы Междунар. науч. конф./Отв. ред. В.Ю. Зуев. СПб. С. 242-247.
- Чикишева Т.А., 2003. Население Горного Алтая в эпоху железа по данным антропологии//Население горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики)/Отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 286 с. (Интегральные проекты СО РАН. Вып. 1.)
- Murphy E.M., 2003. Iron Age Archaeology and Trauma from Aymyrlyg, South Siberia. Oxford: Archaeo-press. 231 p. (BAR Int. Ser. 1152.)
- Ortner D.J., Putchar W.G.J., 1981. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 488 p. (Smithsonian Contributions to Anthropology. № 28.)