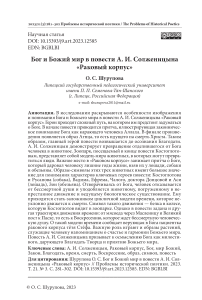Бог и божий мир в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус»
Автор: Шурупова О.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В исследовании раскрываются особенности изображения и понимания Бога и Божьего мира в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус». Герои проходят сложный путь, на котором им предстоит задуматься о Боге. В начале повести приводится притча, иллюстрирующая законническое понимание Бога как карающего человека Аллаха. В финале произведения появляется образ Агнца, то есть идущего на смерть Христа. Таким образом, главный герой повести возвышается до осознания Благодати. А. И. Солженицын демонстрирует превращение отделившегося от Бога человека в животное. Зоопарк, посещаемый в конце повести Костоглотовым, представляет собой модель мира животных, в которых могут превратиться люди. Важное место в «Раковом корпусе» занимает притча о Боге, который даровал человеку лишние годы жизни, взяв их у лошади, собаки и обезьяны. Образы-символы этих трех животных имеют большое значение для понимания характеров ключевых героев повести: Костоглотова и Русанова (собака), Вадима, Ефрема, Чалого, доктора Донцовой и Аси (лошадь), Зои (обезьяна). Отворачиваясь от Бога, человек отказывается от бессмертной души и уподобляется животному, погруженному в непрестанное движение и ведущему биологическое существование. Ему приходится стать заложником цикличной модели времени, которое неуклонно движется к смерти. Символ такого движения - белка в колесе, которую Костоглотов видит в зоопарке. Однако в повести задана и другая траектория движения времени: от мясоеда через Масленицу и Великий пост к Пасхе, то есть к Воскресению, которое ждет бессмертную человеческую душу. О такой модели времени сообщает верующая в Бога пациентка ракового корпуса тётя Стёфа. Важную роль играют и образы растений, служащие человеку напоминанием о счастье и гармонии Божьего мира. Повесть А. И. Солженицына призывает к осмыслению Бога как милостивого, дарующего Благодать Творца и приятию Божьего мира.
А. и. солженицын, раковый корпус, бог, мир божий, закон, благодать, время, смерть, воскресение, образ, символ, повесть
Короткий адрес: https://sciup.org/147241444
IDR: 147241444 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12585
Текст научной статьи Бог и божий мир в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус»
Т ак писала о «Раковом корпусе» Солженицына Л. К. Чуковская: «Великолепие, щедрость красок, точность, ум… Какой у Солженицына меткий глаз на предметы и на поступки … Он — материален до корня ногтей — сам — и как это сочетается с религиозностью — не знаю»1. Действительно, повесть с поразительной точностью воспроизводит предметы и поступки 50–60-х гг. ХХ столетия, погружает читателя в мысли и ожидания людей того времени. Однако в произведении присутствует также глубокая, истинная религиозность, которая удивляла Л. К. Чуковскую, поскольку эта повесть не только о страшной болезни, погубившей огромное количество людей в ХХ в., ссылке, доносах и репрессиях, земной любви — она о взаимоотношениях Бога и человека, о смысле человеческой жизни.
Бытийное измерение вещей в творчестве А. И. Солженицына, его обращение к образам Библии не раз подвергалось изучению. Так, исследователи неоднократно указывали на хронотоп ада в произведениях «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом» [Дорофеева], [Урманов]. О. А. Бердникова с уверенностью говорит о христианском действии в художественном мире писателя, выделяя среди тем, затронутых в текстах Солженицына, «тягу к раскаянию и добру, осознанное неприятие зла, томление духовной жаждой, ведущее к прозрению правды и Истины» [Бердникова: 158]. В работах, посвященных изучению повести «Раковый корпус», подробно анализируется ее художественный мир, в организации которого важнейшую роль играют образы, связанные с христианским миропониманием. Так, Х. Мучник [Мучник] и А. В. Сафронов [Сафронов] исследуют образы персонажей «Ракового корпуса». В статьях целого ряда современных исследователей [Мартьянова], [Терешкина], [Хохлова] изучены прецедентные религиозные тексты, получившие отражение в повести, в том числе Библия. Наконец, исследователи неоднократно обращаются к теме воскресения из мертвых как одной из ключевых в «Раковом корпусе» Солженицына [Немзер], [Шу рупова].
Концентрируя внимание на раскрытии сущности человека и его предназначении в «Раковом корпусе», исследователи до сих пор практически не рассматривали, как в повести отражаются отношения Бога и человека. Однако многие детали говорят о Божьем присутствии в раковом корпусе, где больные, казалось бы, находятся практически наедине со своим страшным недугом. В статье необходимым представляется рассмотреть особенности того диалогического взаимодействия, в котором находятся в «Раковом корпусе» Бог и человек.
Первая глава повести, которая носит название «Вообще не рак», позволяет читателю увидеть замкнутый, отграниченный от всего остального человечества мир ракового корпуса глазами Павла Николаевича Русанова, который не считает себя суеверным. Однако его налаженная жизнь за считанные часы оказалась «по ту сторону опухоли»2, а глубоко несчастный пациент ракового корпуса вынужден был перейти в ненавистный ему мир, где впервые услышал, как человек молится и как люди говорят о Боге. Во второй главе «Образование ума не прибавляет» Русанов становится свидетелем беседы абсолютно, казалось бы, далеких от веры людей: Ефрема Поддуева и отслужившего в советской армии Ахмаджана. Однако именно Ефрем рассказывает, с точки зрения Русанова, «идиотскую сказку» (4: 23), рисующую отношения Аллаха и человека. По словам Поддуева, Бог хотел даровать человеку только двадцать пять лет жизни, но дал ему возможность выбора, и тот выпросил лишние годы у лошади, собаки и обезьяны. Таким образом, впервые в повести о Боге говорит Ефрем Поддуев, в форме притчи, с которой сам же внутренне не согласен в момент ее рассказывания.
Е. А. Масолова обращает внимание, что в повести «Раковый корпус» писатель предлагает «промежуточные ступеньки, по которым можно возвыситься духом» [Масолова: 173]. Действительно, первое упоминание о Боге сделано не верующим в Него человеком и услышано столь же неверующими людьми. Они на первой ступени духовного развития, только начинают задумываться о смысле жизни. Вызвано это их тяжелой болезнью, без которой эти герои никогда бы и не вспомнили о Боге.
При этом притча иллюстрирует то отношение к Богу, которое И. А. Есаулов назвал бы «законническим» [Есаулов: 115]. В ней Тот, кого Ефрем называет на мусульманский лад Аллахом, предстает как некое суровое, законническое начало. Аллах из притчи отмеряет одинаковое число лет лошади, собаке, обезьяне, как бы демонстрируя одинаковое отношение ко всем творениям, кроме человека, который пришел на раздачу последним и сам оказался виноват, что ему досталось меньше, чем другим. Он не предостерегает человека, жаждущего продлить свою жизнь, и предоставляет ему право выпрашивать себе годы жизни у животных. Подаренное человеку время оказывается, по решению Аллаха, своеобразным наказанием: только двадцать пять лет человек будет жить хорошо, а остальные годы будет проводить, подобно лошади, собаке и обезьяне. Такое понимание Бога как сурового, карающего Начала, предоставляющего человеку возможность делать ошибки, за которые потом само же карает, конечно, ущербно. Однако даже такое понимание Бога еще недоступно для Русанова, как и для Ефрема, который рассуждает, что «никакие лета не представились бы ему ненужными, если бы здоровье» (4: 82). Пока человек здоров и бодр, он может жить и как лошадь, и как собака, и как обезьяна и желать, чтобы такая жизнь никогда не кончалась.
Образы этих животных не напрасно появляются в рассуждениях Ефрема. На примерах героев повести заметно, как жизнь без Бога становится для человека жизнью лошади, собаки, обезьяны. Образы этих животных несколько раз появляются в повести. Персонажи часто сравниваются с животными: главврач — с тигром, Шулубин — с филином, подросток Дёмка — с котенком, хирургичка Анжелина — с лисой, Вега — с благородной антилопой-нильгау и т. д. В финале «Ракового корпуса» выписавшийся из больницы Костоглотов идет в зоопарк, где перед его взором открывается пародия на мир человеческий: животные так же пребывают в клетках, как заключенные в тюремных камерах, а в желтых глазах тигра Костоглотов узнает глаза Сталина, о которых слышал: «…не бархатно-чёрные, а именно жёлтые были глаза!» (4: 391) (однако желто-карие, хищные глаза Костоглотов до этого видит и у Зои, в которой, таким образом, тоже обнаруживается животное начало). Тем не менее, наиболее важными для понимания того, как изображается в произведении Божий мир, являются, по нашему мнению, образы животных из притчи: обезьяны, собаки и лошади.
Обезьян в зоопарке много, и они напоминают Костоглотову реальных людей, с которыми он встречался на жизненном пути:
«Без причёсок, как бы все остриженные под машинку, печальные, занятые на своих нарах первичными радостями и горестями, они так напоминали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных» (4: 390).
Больше всего поражает героя пустая клетка с надписью о том, что «жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей» (4: 390), пострадала от злого человека. Олег с ужасом понимает, что эта беззащитная обезьянка так же пострадала от равнодушного, бессмысленного зла, как он сам и тысячи других людей. Обезьяна здесь символизирует обычного человека, одного из многих, беззащитного и уязвимого. Зоопарк представляется вчерашнему узнику олицетворением всего мира, несправедливого, жестокого, устроенного по неправильным, суровым законам.
Однако образ обезьяны связан еще и с симпатичной, нравящейся Костоглотову медсестрой Зоей, которая (хотя Кос-тоглотов об этом не знает) «сама себе сшила костюм обезьяны с великолепным хвостом» (4: 124), но «какие-то грубые парни ножом отсекли её хвост и из рук в руки передали и спрятали» (4: 124), а все вокруг стали смеяться над ее несчастьем. Эта бессмысленная, жестокая выходка напоминает поступок человека, ослепившего обезьяну в зоопарке. Бездумно обижающие девушку парни подобны зверям. Впрочем, Зоя — обычный человек, живущий, как обезьяны в зоопарке, «первичными радостями и горестями» (4: 390). Она твердо знает, что её имя означает «Жизнь» и спокойно говорит о своей близости к зоопредкам:
«Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим детёнышей. Разве это так плохо?» (4: 137).
Здоровая, красивая девушка живет так же, как ее многочисленные подруги-медички, разделяя мнение, что «от жизни надо спешить брать, и как можно раньше, и как можно полней» (4: 124). И хотя она ощущает, что в физической любви, которую окружающие ее девушки и молодые люди считают самым ценным из того, что надо «спешить брать», не хватает главного, «дающего устояние в жизни и саму жизнь» (4: 125), Зоя не понимает, где и как искать иного, к чему еще можно стремиться. Предел ее мечтаний — окончание института, замужество, рождение детей, хотя она и осознает отчасти, что этого мало для счастья. Ей неведомо, что может сделать человека по-настоящему счастливым.
Между тем и Зоя, студентка медицинского института, и Косто-глотов, окончивший два курса геодезического отделения, с уверенностью говорят о зоо-предках. В ХХ столетии «на каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая строение червей или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него)» (7: 11). Тезис о происхождении человека от обезьяны был возведен в ранг абсолютной, непогрешимой истины, возражение против которой казалось едва ли не политическим вызовом. Герои «Ракового корпуса» уверены в существовании зоо-предков, поэтому так остро, пронзительно звучит сравнение маленького человека с обезьяной, которая занята самыми примитивными, насущными вещами, не поднимаясь до поисков смысла жизни, и которую легко обидеть. Ефрем в своей притче упоминает, что над человеком, как над обезьяной, двадцать пять лет «смеяться будут» (4: 23). Общество без Бога — зоопарк, обитатели которого заключены в клетки на потеху тому, кто готов над ними посмеяться. Человек, уверенный, что главное в жизни — борьба за существование и удовлетворение инстинкта размножения, спускается до уровня животного. Именно поэтому так возмущенно протестует Вега против того, что право «продолжить себя» (4: 261) — главное для любого человека:
«Да ведь неправда же!‥ Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!‥ Проверьте себя! Это — заимствованные, это — несамостоятельные настроения! <…>
— Должен кто-то думать и иначе! <…> А если только так — то среди кого ж тогда жить? Зачем?‥ И можно ли!‥» (4: 261).
Еще одним животным, от которого, по словам Ефрема, Аллах отнял годы жизни, чтобы передать человеку, является лошадь. Оно неоднократно упоминается в повести. Так, о лошади говорит больной геолог Вадим Зацырко, заявляющий:
«…моей жизни весь смысл — только в движении, пешком и на коне» (4: 158).
Если образ лошади неразрывно связан в нашем сознании с движением и с работой, то Вадим как бы воплощает эту жизненную модель. Ему надо непрерывно двигаться, непрестанно «быть в поле» (4: 159) и работать, невзирая ни на какие препятствия. Его девиз: «Работайте больше! И не в свой карман» (4: 160) — на деле является тем лозунгом, который могла бы избрать для себя тягловая лошадь. Здесь нельзя не вспомнить персонажа антиутопии Дж. Оруэлла «Скотный двор» — коня, который много работал, во всех сложных ситуациях уговаривал себя работать еще больше и еще старательнее и, растратив на непосильную работу всю свою жизнь, кончил свои дни на скотобойне. Образ лошади является своеобразным ключом и к пониманию самого Ефрема. Даже в его внешних чертах проявляется это животное начало: у него «рыжие глаза» (4: 92), «тупая голова, буро заросшая» (4: 11), «он не то, что был двужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог еще восемь отработать» (4: 78), «таскал <…> шестипудовые мешки» (4: 78), «перебывал <…> во многих краях, переделал пропасть разной работы» (4: 78). Страх смерти он поначалу отгоняет от себя тем, «что был на ногах и каждый день, как ни в чём не бывало, шёл на работу и слушал похвалы своей воле» (4: 79), а затем, уже в раковом корпусе, тем, что «бежал искать помощи»: «от окна к двери и обратно, по пять часов в день и по шесть» (4: 81). Этот непрестанный бег от необходимости задуматься о скорой смерти и смысле прожитой жизни характерен для многих героев повести. Так, и Людмила Афанасьевна, понимая уже, что заболела, пытается уцепиться за «повелительную инерцию работы» (4: 76). Солженицын подробно рисует жизнь работающей женщины, которую после тяжелого трудового дня ждет очередь в гастрономе, грязная посуда, приготовление обеда на первую половину недели и грязное белье, которое непременно надо «замочить <…> — сегодня бы, когда б ни лечь» (4: 77). Даже сумки у таких женщин — баулы, «куда можно затолкать живого поросёнка или четыре буханки хлеба» (4: 77), и они покорно, как лошади, тянут лямку «повторительной, вечно возобновляемой работы» (4: 77).
Впрочем, не все персонажи книги поглощены трудом, съедающим все силы и отвлекающим от тягостных размышлений. Удивительно, но с лошадью сравнивается и нежная, тоненькая девочка Ася. Пораженному Дёмке она при первом знакомстве кажется «желтоволосым тающим ангелом» (4: 103), и тем резче это сравнение с животным, которое появляется в двадцать восьмой главе — последней, где упоминается эта героиня:
«Взвилась она рассерженно, как лошадь взвивается с передних, и руку вырвала, и тут только увидел Дёмка её мокрое, и красное, и пятнистое, и жалкое, и сердитое лицо» (4: 308).
Девочка в отчаянии: она узнает о предстоящей операции молочной железы и не знает, ради чего ей, изуродованной, теперь жить. До этого тяга к непрестанному движению была свойственна и ей: она занималась бегом, и в больницу «забежала "на три дня на исследование"» (4: 306), и «сто сорок сантиметров» и «тринадцать две десятых» делала (4: 104).
Не поглощен тяжким трудом и еще один персонаж — Максим Чалый, фамилия которого опять-таки напоминает о лошадях. По замечанию А. В. Сафронова, он единственный человек, кто «благополучен и даже счастлив в этом мире» [Сафронов: 105]. Исследователь отмечает, что «фамилия "Чалый" происходит от обозначения лошадиной масти: "серый с примесью другого цвета", но в то же время это и "заключённый, имеющий несколько судимостей"» [Сафронов: 105]. Этот персонаж наслаждается незамысловатыми благами: едой, с удовольствием закусывая помидорчиками и телятинкой, водкой, женщинами.
Он не отягощает свою жизнь непосильной работой, открыто заявляя:
«Я так работаю, чтобы всегда — с карманом. Где деньги платить перестают — я оттуда ухожу» (4: 250).
Казалось бы, он противопоставлен «работающему не в свой карман» (4: 160) Вадиму. Однако и у того, и у другого смысл жизни в непрестанном движении. Только для Вадима физиологические удовольствия не на первом месте, хотя и он признает, что «на всякое дерево птичка садится» (4: 158) и найти любовь — не проблема, а Чалого в каждом из бесчисленных городов, которые он посещает, спекулируя разными товарами, ждет «комната с куриной лапшой» (4: 247) и женщина. Он радуется, что «с августа разрешили аборты делать — оч-чень упростило жизнь!» (4: 247). Человеку дана заповедь «Не убий», но у животного нет моральных норм, запрещающих убийство. И если Вадим, Ефрем, Людмила Афанасьевна хотя бы задумываются о смысле жизни, то счастливый Чалый полностью лишен каких-либо сомнений. Он жаждет жить, и к нему вполне можно отнести слова А. И. Солженицына об уголовниках:
«Это племя, пришедшее на землю — жить! <…> И какое им дело <…>, как страдают другие тут рядом» (6: 273).
Чалый искренне и просто произносит те слова, которые соответствуют описанному в «Архипелаге ГУЛАГ» мировоззрению урки:
«Один раз на свете живём — зачем жить плохо? Надо жить хорошо…!» (4: 250).
Но такое отношение к жизни, по мнению А. И. Солженицына, полностью соответствует тому, что могло бы сказать о ней любое животное:
«К чему сводится наша философия жизни? — "Ах, как хороша жизнь!‥ Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!" Что за глубина! Но это может и без нас сказать любое животное — курица, кошка, собака» (4: 112).
Глаза Чалого на момент озаряются, и стоит «в них напряжённый поиск — смысла! Смысла бытия» (4: 249). Но смысл этот оказывается связан с тем, что каждому хочется жить, то есть получать деньги и тратить их на себя. Образ Чалого демонстрирует тот уровень, на котором оказывается человек, посвятивший жизнь движению, будь оно связано с трудом, или со спортом, или с постоянной переменой мест, или с получением денег (это и Асе не чуждо, хотя смысл жизни для нее, как она заявляет, не только в наслаждении любовью, но и деньгами — высокой зарплатой спортсмена, и покупками, которые можно за эти деньги сделать в специализированных магазинах, и поездками по городам Союза). Это уровень животного. Однако необязательно, что оно будет злым или дурным. Животное живет примитивными инстинктами, полностью подчинившись им, и даже не помышляет о смысле жизни или о смерти. Именно поэтому Русанов, казалось бы, далекий от сельского хозяйства, с таким удовольствием читает «статью о претворении в жизнь решения <…> о крутом увеличении производства продуктов животноводства» (4: 140) и со страхом и негодованием встречает любое напоминание о Боге: шепот старика узбека, похожий на чтение молитвы, «иконописный» лик сестры Марии, слова книги Толстого. Мир без Бога — это мир животных, в котором главный вопрос повести: «Чем люди живы?» — кажется излишним.
Если первые двадцать пять лет жизни человека, согласно притче, данные ему Богом сверх нормы, он живет, работая и пребывая в движении, подобно лошади, то следующие двадцать пять лет он «гавкает, как собака» (4: 23). Образ собаки в повести тоже появляется не раз. Так, фамилия Костоглотова отчасти напоминает об этом животном. По словам И. А. Хохловой, «Олег Костоглотов представляется нам человеком сильным, но напуганным, храбрым, но недоверчивым — это все действительно присуще собакам» [Хохлова: 291]. Он сам несколько раз вспоминает собак своих друзей Кадминых, Жука и Тобика, которые были ему настоящими друзьями. С горечью он узнает о трагической гибели Жука, которого застрелили. Собака появляется и в доме доктора Орещенкова, причем ее появление странным образом успокаивает расстроенную, пребывающую в страхе Донцову. Пес ведет себя как равный людям и смотрит на них «с трансцедентной отречённостью» (4: 329). Однако если эти собаки могут послужить людям примером преданности и дружелюбности, то собака Русановых, Джульбарс, бросается на прохожих. Его сын Лаврик «любит — притравить немножко на прохожего, а потом: вы не пугайтесь, я его держу!» (4: 16). В этой повести собаки в определенной мере отражают характер хозяев, и сам Русанов, охотящийся за инакомыслящими, отчасти напоминает такую собаку, которая, как успокаивает его дочь Авиета, «руководится своим классовым чутьём — а оно никогда не подведёт» (4: 221). Самое дорогое для Русанова, как постепенно узнает читатель, — его роскошная квартира. На словах живущего «идейностью и общественным благом» (4: 86) Русанова на самом деле привлекают вполне материальные интересы. Но он считает, что блещет «преданностью, аккуратностью и настойчивостью» (4: 222). Преданность эта направлена на того, кого сам Русанов мысленно именует Хозяином (4: 249) (есть у него и «местный Хозяин» (4: 153), некий Сергей Сергеевич). Как замечает о подобных Русанову людях А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», «рассудить, так сами они этот жребий выбрали: служба их — та же, что у хранных собак, и служба их связана с собаками» (6: 331). Человек может быть, «как пёс, как битый несчастный пёс» (4: 392), который жаждет, чтобы его пожалели, приласкали. Но, переработавшись во пса (6: 116), он может стать и хищным, жаждущим крови, бросающимся на людей.
Впрочем, в мире без Бога, который пытаются построить Русанов и подобные ему люди, появляются и более зловещие образы, чем собака. Описывая, как Русанов охотится за своими жертвами, Солженицын рисует инфернальную картину: внешняя кипучая жизнь завода — только видимость. Настоящая жизнь «струилась <…> в тайных бумагах, в глуби портфелей <…>, и долго молча могла ходить за человеком — и только внезапно на мгновение обнажалась, высовывала пасть, рыгала в жертву огнём — и опять скрывалась, неизвестно куда» (4: 154). То, чему служит Русанов, связано с огненным чудовищем, то есть с адом. Мир без Бога только внешне напоминает мир животных. Однако незаметно для большинства его обитателей, занятых добыванием пищи и кормлением детенышей, им завладевает дьявольское начало. Русанов жаждет вернуться к прежней жизни: на любимую работу, в любимый кабинет, тамбур перед которым напоминает «входной предохранительный ящик» (4: 154) без света и воздуха, а по сути — гроб. Помимо физической смерти, которой очень боится Русанов, есть и некая другая, духовная смерть, и ее дела он спокойно вершит, опутывая людей сотней невидимых ниточек (4: 151), уловляя их в невидимую паутину.
По мнению писателя, Бог дает человеку свободный выбор: кем ему быть. Согласно притче Ефрема, человек сам избирает для себя жребий лошади, собаки, обезьяны, но может — по собственному выбору — остаться и человеком. И постепенно герои повести приходят к Богу. Во второй раз персонажи вспоминают о Боге в десятой главе «Дети». Ее главное действующее лицо — Дёмка, который «с самого первого класса, еще и читать-писать не умел, а уже научен был <…>, что религия есть дурман» (4: 101), из-за которого трудящиеся не могут освободиться от эксплуатации. В больнице этот мальчик, который не успел закончить школу, но уже уверен в том, что религия — это плохо, встречается с тётей Стёфой, которая впервые рассказывает ему о Боге. Дёмка начинает понимать, что слова, которые бездумно повторяют все вокруг, — ложь:
«Говорят — от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него» (4: 100).
Тётя Стёфа знает:
«От Бога зависит. <…> Богу всё видно. Надо покориться, Дёмушка» (4: 100).
Не пытаясь поучать его, она просто жалеет подростка, угощает его принесенными из дома припасами и рассказывает, что за мясоедом наступит Масленица, а затем Великий пост, который нужен человеку, потому что «на то и просветы, чтобы просветляться. Натощак-то свежей…» (4: 101). Рассказ тёти Стёфы выполняет несколько функций. Конечно, она таким образом говорит ребенку о Боге и Божьем миропорядке, пытаясь в меру своих сил объяснить, почему человеку выпадают скорби и болезни (это же пытается рассказать доктору Донцовой ее учитель Орещенков, уверенный, что для врача заболеть по своей специальности «в высшей степени справедливо» (4: 324)) . Она не решается судить Дёмкину грешную мать. Бог, в которого она верует, — уже не законнический, карающий Бог Ефрема, вспомнившего за время пребывания в больнице свои грехи, но не знавшего, как в них покаяться, а милостивый Творец, давший свет всем. Ефрем уверен:
«Я — баб много разорил. С детьми бросал… Плакали… У меня не рассосётся» (4: 110).
Тётя Стёфа твердо знает:
«На белом свете все живут. Белый свет всем один» (4: 100).
Однако ее рассказ о смене мясоеда и поста служит читателю напоминанием о времени действия в повести. Костоглотов и Русанов попадают в раковый корпус зимой, в январе. В повести упоминается и наступление весны, и праздник Восьмого марта, и цветение урюка. Параллельно с изменениями в природе движется время церковного календаря: за мясоедом приходит Масленица, затем — пост, после чего должен наступить день Светлого Христова Воскресения. Можно с уверенностью говорить о пасхальности произведения А. И. Солженицына. Кроме темы грядущей Пасхи, о которой тетя Стёфа Дёмке не говорит (однако она обязательно придет после поста), в ее словах звучит тема движения времени.
Исследуя художественный мир романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», В. Непомнящий справедливо замечает, что «единственное, чему подчиняется герой Пушкина, кроме собственных желаний, — это "недремлющий брегет", часы, мертвый механизм, который повелевает герою делать то или другое, управляет его жизнью и вносит некую видимость порядка в его бессмысленное существование» [Непомнящий: 368–369]. Герои Солженицына тоже живут жизнью, которую пытаются определять «простейшими хотениями, простейшими потребностями» [Непомнящий: 368], и очень разные люди: Чалый, Зоя, Вадим, Костоглотов — сходятся в таком миропонимании. Отмеренное каждому из них время, будь то больные или здоровые, неуклонно сокращается. Умер Сталин, хотя «плакали старые, и плакали девушки, и мир казался осиротевшим» (4: 247). Для тех, кто остался в живых, даже для беззаветно преданных Хозяину, жизнь продолжается, и Русанов проникается идеями Чалого и Авиеты, что надо жить дальше и наслаждаться жизнью. Как справедливо замечает А. С. Немзер, «Русанов блестяще сдает экзамен по, как выразилась Авиета, "отзывчивости к дыханию времени". В котором <…> по существу ничего не меняется. А внешние изменения принимать надо» [Немзер: 244]. Но время неумолимо движется, и герои повести с каждым днем приближаются к уготованному всем концу. Как рассуждает Вера Гангарт, «просто с годами мы тупеем. Устаем. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности. Мы сдаём их времени» (4: 270). Однако параллельно с этим временем, безжалостно поглощающим все, существует и время тёти Стёфы, и оно движется с одной стороны. От мясоеда к посту, то есть к тяготам и скорбям, а с другой — от поста к Пасхе, от смерти к Воскресению. Этому времени человек тоже подчинен, но он вправе выбирать: двигаться ли ему от зимы к весне, а затем к осени и зиме, от жизни к смерти или от поста к Воскресению. Русанов думает, что приятно «твёрдо знать, что вот зазеленеет — и ты будешь жить, и следующую весну тоже» (4: 312). В мире без Бога время циклично, все повторяется, приходит весна за весной, а человек уверенно спускается к смерти (4: 98). И Русанов не знает, будет ли физически жив к следующей весне, которая обязательно наступит, но, возможно, без него. Образом такого цикличного движения в повести становится колесо, в котором непрестанно вертится белка:
«Не было в клетке внешней силы, которая могла бы остановить колесо и спасти оттуда белку, и не было разума, который внушил бы ей: "Покинь! Это — тщета!" <…> Только один был неизбежный ясный выход — смерть белки» (4: 388).
В мире Божьем все происходит иначе — через смерть к Воскресению. Бог и является той Силой, которая останавливает человека, погрузившегося в тщету, и напоминает ему о его подлинном предназначении, пусть даже путем страшной болезни.
С темой Воскресения в повести связано многое. Это и балет «Спящая красавица», который ждет посмотреть больной, умирающий Костоглотов, и музыка, которую слушает позже Вера Гангарт, и «воскрешение из мёртвых» (4: 150) Родичева, которое так напугало Русанова, и «сквозистое розовое чудо» — цветущее дерево, которое Костоглотов «дарил <…> себе — на день творения» (4: 377). Он ощущает, что «умер в январе. А теперь <…> вышел из клиники некий новый Костоглотов…» (4: 376), которому дана новая, другая жизнь. Ее нужно прожить иначе, не совершая ошибок.
В финальной главе, которая носит название «И последний день», встречается еще одно упоминание о Боге. Во-первых, Костоглотов прямо заявляет в письме Вере, что их встречу «Бог посылает» (4: 408), то есть, пройдя через раковый корпус, он признал бытие Бога. Во-вторых, не знающий ничего об истории Веры Гангарт и ее погибшего жениха Костоглотов неким чудесным образом прозревает ее и пишет Вере:
«Вы, полжизни своей закололи как ягнёнка — пощадите второго!» (4: 409).
Заколотый ягненок — это сложный образ, напоминающий о Жертвенном Агнце, то есть о Христе, добровольно пошедшем на заклание и принявшем крестную смерть. От законничес-кого понимания Бога как карающей силы в начале повести писатель подводит к пониманию Бога как Христа, умершего и воскресшего ради спасения человека.
Костоглотов, отказываясь от встречи с Верой, в определенной степени жертвует собой, и сапоги его, когда он лежит, уткнувшись в шинель, болтаются, «как мёртвые» (4: 411). Если не помнить о Воскресении из мертвых, можно решить, что конец повести печален и почти трагичен. Между главными героями так и не сложились отношения, Костоглотов уехал в ссылку, неизвестно, выздоровеет ли он. Однако читатель подходит к финалу произведения, уже ощутив разницу между миром без Бога, где все внешне подчиняется животным законам, а на самом деле — законам смерти, и благодатным миром Божьим, в котором, как говорит Стёфа, «все живут» (4: 100). В нем у каждого человека есть то, что отделяет его от животного. Это, как говорит Шулубин, «осколочек Мирового Духа» (4: 372) — Бога, нечто неистребимое, вечное, то есть душа.
О душе думает и доктор Орещенков, уверенный, что смысл существования «в том, насколько удавалось <…> сохранить неомутнённым, непродрогнувшим, неискажённым — изображение вечности, зароненное каждому» (4: 330). Именно благодаря душе, которую можно стремиться сохранить чистой, человек может быть счастлив. Как рассуждает Шулубин, «счастлив и зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди! И это — высшее, что доступно людям!» (4: 341). Неслучайно последнее напутствие Костогло-това Дёмке звучит так: «Выздоравливай — и будть человек! На тебя — надеюсь!» (4: 407).
Мир Божий полон чудес. Повествуя о нем, Солженицын чаще всего отмечает красоту сотворенной Богом природы — растений, которые отличаются от человека смирением и покорностью своей судьбе:
«У человека — зубы, и он ими грызёт, скрежещет, стискивает их. А у растений вот — нет зубов, и как же спокойно они растут, и спокойно как умирают!» (4: 195).
С растением Солженицын сопоставляет только одного человека — верную Веру Гангарт, которая напоминает агаву — «Цветёт агава один раз в жизни и вскоре затем — умирает» (4: 268). Люди не растения, поэтому не способны столь же бесстрастно переносить отпущенное им. Однако растения могут служить героям романа напоминанием о счастье, которое Бог может дать человеку. Солженицын говорит о чуде цветущего урюка, о русских березах, о зеленеющих среди казахской пустыни тополях, о растениях пустыни: «степной жусан — с горьким запахом, а таким родным!», «жантак с колкими колючками», «еще колче того джингиль», «одурманивающее это дерево джиду» (4: 210). Правда, люди практически не обращают на эту красоту внимания. Доктор Донцова «всегда так была занята, что не выпадало ей остановиться, голову запрокинуть и прощуриться» (4: 320). Главное чудо все же не в природе как таковой, а в Таинственном, способном даровать человеку — иногда через растение, например иссык-кульский корень, или через гриб чагу, рассказ о котором вдруг заставляет пациентов ракового корпуса задуматься о чуде:
«Кто из нас с детства не вздрагивал от Таинственного? — от прикосновения к этой непроницаемой, но податливой стене, через которую всё же нет-нет да проступит то как будто чьё-то плечо, то как будто чьё-то бедро. И в нашей каждодневной, открытой, рассудочной жизни, где нет ничему таинственному места, оно вдруг блеснёт нам: я здесь! Не забывай!» (4: 115).
Можно в полной мере согласиться с И. Ю. Кудиновой, считающей, что в своей повести «Солженицын ощущает и одухотворенно воплощает присутствие Творца, который создал прекрасный мир по воле Своей» [Кудинова: 292]. Человеку следует брать с других созданий Божьих пример и принимать волю Бога, Который дарует ему милость или посылает болезнь и даже смерть. Однако по сравнению с растениями и животными, у человека есть душа, способная жить вечно, в отличие от смертного и слабого тела. Именно благодаря душе он может испытывать любовь, расположение к ближнему, жертвовать собой и познавать Бога. Мир Божий, изображаемый А. И. Солженицыным, гармоничен и прекрасен, однако человек волен выбирать, быть ли ему с Богом и как относиться к Нему: по-законнически, как к грозной силе, карающей грешника, или по благодати, как к милостивому Творцу, даровавшему людям бессмертие.
Список литературы Бог и божий мир в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус»
- Бердникова О. А. Метафизика русской жизни в изображении А. И. Солженицына // Л. Н. Толстой и А. И. Солженицын: диалоги в непрошедшем времени: мат-лы Всерос. науч. конф. (9–11 октября 2018 г., г. Липецк). Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. СеменоваТян-Шанского, 2018. С. 151–159.
- Дорофеева Л. Г. Образ Церкви в духовном пространстве романа А. И. Солженицына «В круге первом» // Духовный потенциал русской классической литературы: сб. науч. тр. / Московский гос. обл. ун-т; [редкол.: В. В. Пасечник и др.]. М.: Русскiй миръ, 2007. С. 562–580.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. 550 с.
- Кудинова И. Ю. Интонация благодарения в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» // Межрегиональные Пименовские чтения. 2015. № 12. С. 288–292. EDN: XZCTUL
- Мартьянова С. А. Библейские образы в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус»: история вопроса и перспективы изучения // Евангельский текст в русской словесности: сб. тезисов докладов X Всерос. науч. конф. (с международным участием), 21–24 сентября 2020 г. / отв. ред. И. С. Андрианова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. С. 332–334.
- Масолова Е. А. Повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус»: рецепция идей философов и художников в тоталитарном государстве и система персонажей // Л. Н. Толстой и А. И. Солженицын: диалоги в непрошедшем времени: мат-лы Всерос. науч. конф. (9–11 октября 2018 г., г. Липецк). Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. С. 173–180.
- Мучник Х. «Раковый корпус»: судьба и вина // Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974–2008: сб. ст. М.: Русский путь, 2010. С. 558–574.
- Немзер А. С. Проза Александра Солженицына: опыт прочтения. М.: Время, 2019. 640 с.
- Непомнящий В. С. Удерживающий теперь. Пушкин в судьбе России: избранные работы и выступления. М.: Изд-во Православного Свято–Тихоновского гуманитарного университета, 2022. 652 с.
- Сафронов А. В. Свободный человек из «Ракового корпуса» (образ Максима Чалого в повести А. И. Солженицына) // Вестник Костромского государственного университета. 2016. Т. 22. № 1. С. 104–107 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.ksu.edu.ru/archive-2016/vestnik-2016-1-ru.html (15.04.2023).
- Терешкина Д. Б. Человек перед лицом смерти: минейный код повести А. Солженицына «Раковый корпус» // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 3 (52). С. 316–319.
- Урманов А. В. Художественное мироздание Александра Солженицына. М.: Русский путь, 2014. 624 с.
- Хохлова И. А. Эпизод в «зоопарке» в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» и христианские шестодневы // Государство. Общество. Церковь: мат-лы Междунар. науч. конф., 18 ноября 2020 г. / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; Православ. религиоз. орг. Владим. епархия Рус. Православ. Церкви; Союз краеведов Владим. обл. Владимир: Аркаим, 2020. С. 288–294.
- Шурупова О. С. Пасхальная тема в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» // Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций (Афон — Валаам — Задонск — Оптина Пустынь — Соловки): мат-лы ХIV Междунар. форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения», г. Липецк-Задонск, 26–28 апреля 2018 г. / под ред. Н. Я. Безбородовой, Н. В. Стюфляевой. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 102–104.