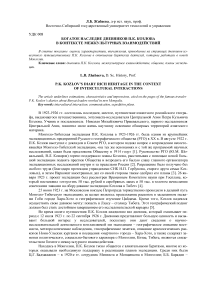Богатое наследие дневников П. К. Козлова в контексте межкультурных взаимодействий
Автор: Жабаева Л.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны оценки, характеристики, впечатления, приводимые на страницах дневников известного путешественника П.К. Козлова в отношении бурятских деятелей, которые работали в новой Монголии.
Дневники п.к. козлова, межкультурное взаимодействие, общение, планы экспедиции
Короткий адрес: https://sciup.org/142142522
IDR: 142142522 | УДК: 008
Текст научной статьи Богатое наследие дневников П. К. Козлова в контексте межкультурных взаимодействий
В 1923-1926 гг. состоялось последнее, шестое, путешествие известного российского географа, выдающегося путешественника, энтузиаста-исследователя Центральной Азии Петра Кузьмича Козлова. Ученик и последователь Николая Михайловича Пржевальского, первого исследователя Центральной Азии, посвятил свою жизнь научному освоению обширных территорий азиатского материка.
Монголо-Тибетская экспедиция П.К. Козлова в 1923-1926 гг. была одним из крупнейших экспедиционных предприятий Русского географического общества (РГО) в ХХ в. В августе 1922 г. П.К. Козлов выступил с докладом в Совете РГО, в котором поднял вопрос о возрождении несосто-явшейся Монголо-Тибетской экспедиции, «на тех же основаниях и с той же программой научных исследований, какая была предложена Обществу в 1914 году» [1]. Руководство РГО (Ю.М. Шокальский, В.Л. Комаров) горячо поддержало планы Козлова, рассчитывая с помощью новой большой экспедиции поднять престиж Общества и возродить его былую славу главного организатора экспедиционных исследований внутри и за пределами России [2]. Разрешение было получено без особого труда (благодаря протекции управделами СНК Н.П. Горбунова, старого друга семьи Козловых), и затем Наркомат иностранных дел со своей стороны также одобрил его планы [3]. 26 января 1923 г. проект экспедиции был рассмотрен Временным Комитетом науки при Госплане, который постановил «отпустить 50 тыс. рублей в серебряных ланах и 50 тыс. в золотом исчислении советскими знаками на оборудование экспедиции Козлова в Тибет» [4].
-
25 июня 1923 г. на Московском вокзале Петрограда торжественно проводили в далекий путь Монголо-Тибетскую экспедицию, ее целью являлось продолжение раскопок в засыпанном песками Гоби городе Хара-Хото и географическое изучение Цайдама. Кроме того, Козлов надеялся осуществить свою давнюю мечту: попасть в Лхасу – столицу Тибета. Этот географический подвиг должен был стать достойным завершением его исследовательской карьеры [5].
Во время своего путешествия П.К. Козлов ежедневно вел дневник, который охватывает период с 12 июля 1923 г. по 22 сентября 1926 г. Дневники представляют большую ценность и вызывают большой интерес у исследователей, поскольку они дают сведения о научноисследовательской деятельности возглавляемой им экспедиции – географическое описание местности, метеорологические наблюдения, этнографические заметки, описание археологических раскопок Ноин-Ульских курганов и посещения «мертвого» города – Хара-Хото, а также содержат заметки политического, социально-бытового характера о Монголии, Китае, Тибете, являются свидетельством богатого межкультурного взаимодействия.
Находясь в Монголии, П.К. Козлов тесно общается с влиятельными бурятами, многие из которых оказывали необходимую поддержку в реализации планов экспедиции. Среди них были Ц.Г. Бадмажапов – в 1920-е гг. сотрудник Минюста и Монценкопа в Монголии; Б.Б. Барадин – монголовед, тибетолог, нарком просвещения БМАССР в 1923-1926 гг.; Э. Батухан - первый министр народного просвещения Монголии в 1921-1929 гг.; Ц.-Е. Гочитский - в 1920-е гг. он работал в аппарате правительства Монголии, был председателем правления Монценкопа; А. Доржиев -известный религиозный и политический деятель; М.Н. Ербанов - государственный и партийный деятель БМАССР; Ц.Ж.Жамцарано - монголовед, организатор науки в Монголии, ученый секретарь Ученого комитета (1921-1931), в 1921-1932 гг. - заместитель министра внутренних дел Монголии, руководил департаментом народного образования, в 1921 г. создал Монгольский ученый комитет - прообраз Академии наук Монголии, способствовал основанию Государственной библиотеки, краеведческого музея, архива; Э.-Д.Р. Ринчино - активный участник монгольского национально-демократического движения, с 1921 г. советник монгольского правительства, Председатель Реввоенсовета, член президиума ЦК МНРП; Д. Сампилон - советник монгольской миссии в Москве (1921-1926), министр экономики и торговли МНР; Г.Ц. Цыбиков - востоковед, ученый, секретарь Буручкома (1923-1927).
Более всего П.К. Козлов выделяет в дневниках Ц.Г. Бадмажапова, Ц.Ж. Жамцарано, Э.-Д.Р. Ринчино, которые, как прослеживается в его записях, оказывали всяческое содействие работе экспедиции: с ними Козлов общался не только по делам, но и часто проводил вечера в дружеских беседах. На многих страницах П.К. Козлов называет Ц.Ж. Жамцарано, выдающегося востоковеда и разностороннего ученого, «превосходным учителем», «дорогим собеседником в Монголии». В самые трудные годы, с 1920 по 1932 г., он работал Ученым секретарем Ученого комитета Монголии, будущей Академии наук МНР. Ц. Жамцарано и его монгольскими коллегами в течение 1920-х гг. была проделана колоссальная работа в области организации науки и сбора материалов [6]. Прекрасно знал Монголию и Э.-Д. Ринчино, еще в 1915-1916 гг. являясь участником экспедиции по Внешней Монголии и возглавляя обследовательскую партию, он объездил и изучил ее значительную территорию.
Поэтому неудивительно, что уже 2 октября 1923 г., в самом начале пребывания в столице Монголии (а прибыли в Ургу 1 октября), Козлов восторженно записывает свои яркие впечатления от общения с Жамцарано: «Но больше всех мне доставил удовольствия и интереса славный Жамцарано. Сколько интересного он дает моим помощникам - Глаголеву, Павлову, Кондратьеву» [7].
Жамцарано с трепетом относился к степным обычаям, и на желание Козлова сразу по приезде навестить музыкальных супругов ответил отказом, мотивируя это тем, что путешественник еще «ни у кого из членов монгольского правительства не был. Если бы я был у кого-либо из старших персон, то тогда бы можно было навестить и его, «маленького» [8]. Вскоре визиты были нанесены с соблюдением всех церемоний, и уже возможными стали частые встречи, интересные разговоры, совместные вечера в домашней обстановке, «вечера-спектакли», часто после которых «пение сменялось танцами», играли на мандолине, пианино.
Экспедиция в Тибет откладывалась на неопределенный срок, и П.К. Козлов был вынужден внести коррективы в свои планы и заняться изучением окрестностей Урги. В записи от 17 февраля 1924 г. Козлов пишет о том, что очень интересно беседовали с Жамцарано на тему всевозможных развалин, «Жамцарано - источник сведений об Урге и ее прошлом. Помимо тех памятников и замечательных мест в историческом отношении, как на востоке от Урги - пещера с субурганом и могила с каменным человеком (памятник) в Баян-дабан-яма, так и на севере - Цзун-модо, с усыпальницей царевны (к великому сожалению, испорченный невеждами, разломавшими ломами потолок и проч.). Наш Жамцарано сообщил еще очень интересное сведение, а именно: на запад-юго-запад, вниз по Толе, до ее южного излома, в углу с песками таятся кое-какие постройки. Не так давно компания мест[ных] монголов с предметами для раскопок земли и камней приступила было к откапыванию жилищ. Нашли черепичную кровлю и стали с азартом вести раскопки дольше, как вдруг этих самозваных «археологов» окружил конный монгольский отряд и перепорол жестоко за их попытку извлечь богатства. Говорят, по сторонам, в песках там и сям валяются горшки и другие прочные глиняные изделия. Вообще же говоря надо признать, что Монголия очень богата всякого рода историческими памятниками и хранилищами богатств. Тот же Жамцарано сообщил нам, что прежде всего в хошунах знают про клады, но почему-то боятся их извлекать» [9].
П.К. Козлов со своим помощником С.А. Кондратьевым, который успешно работал с Учко-мом по сбору сведений о Цзун-модо, «долго и мило строили планы наших работ на курганах в Цзун-модо. Мы оба живем этой мыслью и этим делом и нередко общаемся с Ц. Жамцарано». Пу- тешественник восхищался эрудицией Жамцарано и отмечал, что он «источник знаний и всегда что-либо порасскажет очень интересное, относящееся к нашим перспективам, к нашим вопросам. И он живет одними мыслями с нами в области предстоящих работ. «Очень интересно все это», -говорит всегда он» [10].
«Вечером у нас был Жамцарано, с которым мы беседовали долгое время по поводу предстоящих работ в Цзун-модо. Как и я с Кондратьевым, он живет предстоящим: что мы найдем в курганах (начатых и новых, и не в одном, а во всех тех местах расположения курганов). Он продолжает интересоваться и восточным районом - кэрэксурами, и западным - погребенным в песке селением, и большими кэрэксурами в Тарете или другом каком-либо урочище. Надо помнить, что по мере наших работ, по мере их течения не упускать случая быть в контакте, в общении с Жамцарано, надо знать, что только этот единственный человек в курсе мест расположения сокровищ, еще не известных, не только не исследованных. Монголия, вообще говорят богата всевозможными памятниками старины, и благо представляется возможность - надо всесторонне использовать реального представителя монгольского Учкома» [11].
Во время своего шестого путешествия П.К. Козлов исследовал сравнительно небольшую территорию Северной Монголии. В конце февраля 1924 г. Козлов отправляет на разведку в Дзун-модо «ученую экскурсию» во главе с С.А. Кондратьевым и затем, обследовав курганы лично, решает приступить к раскопкам. И вновь, как и в Хара-Хото, путешественника ждала большая удача. [12]. В древних курганах-могильниках «археологи» экспедиции обнаружили большое количество прекрасно сохранившихся предметов - ткани, войлочные ковры с изображением мифических животных, женские косы, седла, изделия из бронзы, монеты, керамику и многое другое [13].
В погребениях Ноин-Улы были найдены ковры, шерстяные и шелковые ткани, золотые украшения, деревянные и металлические изделия, образцы керамики, волосы, заплетенные в косы, и другой археологический материал, характеризующий культу хунну времени китайской династии Хань [14]. Верхний курган дал самое большое количество находок - всего было добыто около 650 предметов. Среди них в первую очередь следует отметить ставший знаменитым войлочный ковер со сценами борьбы яка с рогатым львом и крылатого грифона с оленем и не менее уникальный гобелен «Всадники», а также серебряные бляхи с изображением яков и оленя. Особое место среди находок занимают деревянные лакированные чашечки с надписями, благодаря которым удалось произвести точную датировку этого ноин-улинского захоронения - первое десятилетие нашей эры [15].
Могильники, открытые П.К. Козловым в горах Ноин-Ула, в 130 км к северо-западу от столицы Монголии Урги, оказались по исследованиям археологов гуннскими погребениями, что стало величайшим археологическим открытием ХХ в. Находки стали бесценным материалом в изучении культуры хунну - одного из древнейших кочевых народов Центральной Азии.
Ц.Ж. Жамцарано и Б.Б. Барадин, едва узнав о прибытии в Ургу П.К. Козлова с находками из Суцзуктэ, тотчас явились к нему. Путешественнику было всегда интересно общаться с этими людьми науки, учениками С.Ф. Ольденбурга по востоковедению. «За поздним вечером я показал им только ковер с фигурами мифическ[их] и немифических животных. Впечатление громадное: новая тема, новое веяние, откуда, когда и что за люди?» [16]
По ходатайству главы Учкома Ц.Ж. Жамцарано монгольское правительство разрешило Козлову вывести на время для атрибуции памятники археологии, несмотря на принятый закон, запрещающий иностранным экспедициям вывоз научных коллекций из страны. Отправляя коллекцию в Россию, П.К. Козлов заручился поддержкой со стороны Э.-Д. Ринчино. Так, он пишет: «Говорят, действительно в Верхнеудинск направляются три легких и одна тяжелая машина и почти без нагрузки. Если это так, то полагаю, что найдутся места и для коллекций, и для меня в военных машинах; полагаю, что Д. Ринчино, по моему мнению, сделает все зависящее от него, чтобы мне было и хорошо, и удобно и чтобы я мог быть спокойным за груз» [17]. После благополучного прибытия в Верхнеудинск с «многочисленными манатками» Козлов отправляет телеграмму супруге в Ургу: «Все хорошо, целую, поблагодари Ринчино!» В Верхнеудинске у П.К. Козлова были встречи с М.Н. Ербановым, Б.Б. Барадином, Г.Ц. Цыбиковым. Выступая с лекцией перед общественностью Верхнеудинска, П.К. Козлов говорит о том, что бурятские представители «в ученом мире уже успели завоевать себе посильную известность. Имена Жамцарано, Цыбикова, Барадийна известны ученому миру. С другой стороны, из имен моих сотрудников имя Ц.Г. Бадмажапова также немало говорит о заслугах перед Русским географическим обществом, перед наукой» [18].
Таким образом, дневники последнего путешествия энтузиаста-исследователя Центральной Азии П.К. Козлова являются наследием, в котором отражено богатство межкультурного взаимодействия, о чем свидетельствуют многочисленные записи. Ц.Ж. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино и другие бурятские деятели, пребывающие в тот период в Монголии, хорошо разбирались в истории и культуре степняков, уважительно и очень бережно относились к ее прошлому, и, занимая высокие, властные должности, оказывали разностороннее содействие для успешного проведения экспедиции известного путешественника.