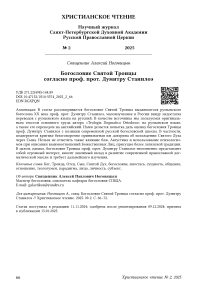Богословие Святой Троицы согласно проф. прот. Думитру Станилоэ
Автор: Священник Алексий Ноговицын
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается богословие Святой Троицы выдающегося румынского богослова XX века проф. прот. Думитру Станилоэ, малоизученное в России ввиду недостатка переводов с румынского языка на русский. В качестве источника мы пользуемся оригинальным текстом основного труда автора «Teologia Dogmatica Ortodoxa» на румынском языке, а также его переводом на английский. Нами делается попытка дать оценку богословия Троицы проф. Думитру Станилоэ с позиции современной русской богословской школы. В частности, подвергается критике безоговорочно принимаемая им доктрина об исхождении Святого Духа через Сына. Нельзя не отметить также влияние блж. Августина и использование психологизмов при описании взаимоотношений Божественных Лиц, присущее более латинской традиции. В целом, однако, богословие Троицы проф. прот. Думитру Станилоэ несомненно представляет собой огромный интерес, вносит значимый вклад в развитие современной православной догматической мысли и требует дальнейшего изучения.
Бог, Троица, Отец, Сын, Святой Дух, богословие, ипостась, сущность, общение, отношение, теологумен, парадигма, лицо, личность, субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/140309599
IDR: 140309599 | УДК: 271.22(498)-144.89 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_66
Текст научной статьи Богословие Святой Троицы согласно проф. прот. Думитру Станилоэ
«Троица есть изначальная тайна, Святая Святых Божественной реальности» [Лосский, 2009, 383]
Осмысление основы основ всегда актуально. Святая Троица, будучи непостижимой в Своей полноте и совершенстве, одновременно является Светом, озаряющим сердце и ум, и маяком, направляющим нас на пути спасения.
Значительное место осмыслению догмата Святой Троицы посвятил в своих работах выдающийся румынский богослов, наш современник, профессор, член Румынской академии прот. Думитру Станилоэ (1903–1993).
Многие труды, написанные им на румынском языке, переведены на английский и французский языки и стали, таким образом, достоянием широкого круга читателей и богословов разных стран мира.
Некоторые статьи переведены и продолжают переводиться на русский язык. Часть из них можно найти в журнале «Труды и переводы» Санкт-Петербургской духовной академии.
В нашем исследовании мы использовали главным образом материалы эпохального труда прот. Думитру «Teologia Dogmatica Orthodoxa», переведенного в 1994 г. на английский язык с названием «The Experience of God».
Как справедливо утверждает Владимир Лосский, о богословии Троицы невозможно говорить вне славословия, и язык, которым мы пользуемся для Ее описания, не может не приближаться к поэзии [Лосский, 2009, 383].
В этом смысле профессора и протоиерея Думитру Станилоэ можно назвать пламенным песнословцем Святой Троицы. Его Троица рядом, Она живая, Троичные отношения являются примером для подражания и высшим эталоном для наших, человеческих отношений.
При этом он не перестает оставаться последовательным в догматическом отношении православным богословом, следуя по стопам святых отцов и своих предшественников.
Итак, перейдем к более детальному рассмотрению его доктрины.
Глубоко восприняв троичное богословие от отцов-каппадокийцев свв. Василия Великого и Григория Богослова и подчеркивая значимость апофатической позиции последнего, проф. прот. Д. Станилоэ тем не менее берет за основу богословскую доктрину патр. Григория Кипрского о предвечном исхождении Святого Духа через Сына, что принимается большинством богословов в качестве теологумена.
Сама эта доктрина появляется в сер. XIII в., незадолго до Лионской унии, когда Константинополь искал пути примирения с Римом. Тогда, казалось, была найдена идеальная формула: Святой Дух исходит от Отца, но через Сына.
С нашей точки зрения, исключительно важным является, сохраняя совершенное равновесие Лиц Пресвятой Троицы, быть верным апофатическому подходу в отношении предвечного исхождения Святого Духа.
К примеру, свт. Ириней Лионский сравнивает Сына и Святого Духа с руками Отца, которыми Он создает мир и человека [Ириней Лионский, 2008, 328].
Святитель Григорий Богослов указывает на безумство тех, которые желают постигнуть образ исхождения Святого Духа от Отца (см. подр.: [Григорий Богослов: Симфония ]).
С ним солидарен свт. Иоанн Дамаскин. Он делает акцент на том, что рождение Сына и исхождение Святого Духа происходит одновременно [Иоанн Дамаскин, 2007, 97].
Святитель Симеон Новый Богослов, также говоря о совершенной неизъяснимости триипостасного естества, пишет: «Три видятся мне как бы на одном лице два прекрасных ока, исполненных света» [Симеон Новый Богослов, 2006, 319. Гимн 36].
Современный сербский богослов прп. Иустин (Попович), комментируя богословие св. Иоанна Дамаскина, пишет: св. Иоанн Дамаскин «никоим образом не считает Сына ни причиной, ни со-причиной, ни началом, ни посредником исхождения Святого Духа от Отца» [Иустин Попович].
Эту позицию поддерживают митр. Амфилохий (Радович) [Амфилохий Радович], представители русской богословской школы Владимир Лосский [Лосский, 2009, 75], архим. Алипий (Кастальский-Бороздин) [Алипий Кастальский-Бороздин, Исайя Белов, 2007, 2007, 148], прот. Олег Давыденков [Давыденков, 2017, 192, 193] и другие.
Профессор протоиерей Думитру, к сожалению, в своем труде однозначно говорит о предвечном исхождении Святого Духа через Сына.
И хотя он делает поправку к словарю патр. Григория, меняя его термин, описывающий взаимоотношение Святого Духа и Сына, с «воссиявает» на «почивает» [Легеев, 2023, 182], это не меняет сам подход.
Здесь нам видится латинское влияние, смешивающее внутритроичные отношения с икономией. В домостроительстве Святой Дух пребывает в Сыне, «почивает» в Нем, Святой Дух посылается в мир и Сыном, и Отцом. Действие Троицы в отношении мира всегда имеет порядок: от Отца через Сына в Духе Святом.
Однако внутри Троицы, когда мы говорим о воссиянии, мы невольно указываем на некий процесс и, следовательно, на некое изменение внутри Троицы, что недопустимо.
Если же мы говорим о почивании Духа на Сыне, либо в Сыне, то мы также невольно указываем на изменение. Святой Дух, Который вечно находится в неподвижном движении как вечно исходящий от Отца, почивает, то есть успокаивается в Сыне, покоится в Нем, что также невозможно.
Нам думается, эта мысль могла родиться из практики богопознания. Когда подвижник, пребывая в молитвенном подвиге, достигает исихии, или внутренней тишины, тогда его дух действительно почивает (или покоится) в Сыне. В этом случае молитвенный дух, воспламеняемый Духом Святым, и почивает, и воссиявает, и подвижник созерцает Бога как нетварный Свет.
Однако в отношении Святой Троицы православные богословы начиная с ранних отцов Церкви и до наших современников единогласно утверждают: Она — «первичная данность»1, в Которой нет и не может быть никаких изменений.
Тайнозрители Святой Троицы — свтт. Василий Великий [Василий Великий, 2009, 691], Григорий Богослов [Григорий Богослов, 2007,128], прпп. Иоанн Дамаскин [Иоанн Дамаскин, 2007, 69], Симеон Новый Богослов [Симеон Новый Богослов, 2006, 412] — предостерегают нас от описания того, что превышает наше разумение. И, думается, не случайно.
Для описания внутритроичных отношений проф. Думитру вводит термин интерсубъективность , который означает взаимное отношение друг к другу Божественных Лиц, или Субъектов.
Думается, это определение вполне удачно, особенно для людей с западным менталитетом: оно рельефно подчеркивает самобытность, неповторимость и уникальность Божественных Лиц и Их взаимоотношений. Восточная традиция использует в этом случае термин перихоресис . У субъекта есть противоположное понятие — объект. Мир объектов — мир тварный, и он, как тень, как задний план, помогает более контрастно увидеть яркость и значимость Божественных Субъектов, или Лиц.
Следуя Ришару Сен-Викторскому2, проф. прот. Д. Станилоэ размышляет о количестве Лиц в Троице. Это размышление хотя и не вызывает сомнений, в большой степени психологично, чего также старается избегать восточное богословие.
Если свт. Григорий Богослов только констатирует: «Единица, от начала движимая к двоице, остановилась на Троице», то проф. прот. Думитру дает этому подробное объяснение. Прежде всего он озвучивает мысль В. Лосского, что Единицу нельзя было бы назвать вполне Личностью, потому что личности свойственно отдавать себя другому. Двоица — это замкнутость двоих, и поэтому несовершенна. Три — это первое число, позволяющее в полноте раскрыться каждой Личности. В качестве аналогии он использует человеческие взаимоотношения.
В четвертом Субъекте нет необходимости, так как это было бы размыванием совершенства Трех (см. подр.: (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 265–267)).
Исключительное внимание проф. прот. Д. Станилоэ уделяет Святому Духу. И здесь в ряде случаев сам себе противоречит. В одном случае он жестко закрепляет за Святым Духом третью позицию в Святой Троице (Станилоэ, 2022, 12)3, в другом он называет Его «другим вторым»4 (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 277).
При этом Святому Духу придается особая значимость. Он не только участвует в межличностных отношениях, как и другие Лица Святой Троицы, но и отдает Свою Личность для общения Отца и Сына.
«Принимать участие в общении в качестве Личности и отдавать Себя для общения с Другим как Личность, это принадлежит Духу» (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 278).
Следуя блж. Августину, Святого Духа прот. Думитру наделяет свойством быть средой, любовью, соединяющей Отца и Сына.
С одной стороны, Святой Дух — Третий, от Которого начинается обратное внутри-троичное движение к Отцу через Сына (позиция патр. Григория, см. подр.: [Легеев, 2023, 181]), с другой стороны, Он есть любовь, исходящая из Отца и являющаяся любовью между Отцом и Сыном (ср.: [Августин Аврелий, 2004, 114])5. Святой Дух воссиявает в Сыне и возвращается к Отцу (позиция св. Григория Паламы) (см. подр.: [Станилоэ, 2022, 9–12]). Таким образом, профессор Станилоэ объединяет идеи блж. Августина, патр. Григория Кипрского, св. Григория Паламы и добавляет собственную мысль о личной самоотдаче Святого Духа, Который становится средой общения между Отцом и Сыном.
Однако можно задать вопрос. Разве Отец не является совершенной любовью? И разве Сын — не совершенная любовь? Почему любовь — исключительная прерогатива Святого Духа?
«Дух изведен, чтобы давать радость всем Лицам» (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 277). Но как радость, так и любовь, — разве эти качества не присущи всем Лицам и разве не относятся к единой сущности или природе Бога?
Уникальность Божественных Лиц, думается, невозможно вписать ни в какие определения. Их отличия выражены словами «нерожденность» и «причина», «рождение», «исхождение». И это все, что нам передали тайнозрители Святой Троицы.
Подвергнув богословие Троицы проф. Думитру некоторому критическому анализу, укажем на несомненные его достоинства.
Прежде всего нас поражает глубина проникновения в предмет.
Для Божественного Лица проф. прот. Думитру использует понятие Subject pur, чистый Субъект (Staniloae: Teol. Dogm., 1996, 207), подчеркивая тем самым совершенную несмешиваемость Субъектов. Думается, это очень точное выражение.
Для отношений в Троице — intersubjectivitatea pur, чистая интерсубъективность (Staniloae: Teol. Dogm., 1996), что также весьма хорошо передает несмешиваемость Лиц при их взаимопроникновении.
Замечательно передано и описано понятие Личности.
Отец — Личность, ибо всецело отдает Себя Сыну и Святому Духу. Во всей полноте проживая жизнь Сына и Святого Духа, поскольку Лица совершенно прозрачны Друг для Друга, Он делает это из Своей собственной позиции, никоим образом не смешиваясь с Другими Лицами.
Сын — Личность, ибо Он всецело предан Отцу и ставит Святого Духа впереди или вместо Себя. Также, забывая Себя ради других, проживая жизнь Отца и Святого Духа в Себе, Он делает это из позиции Сына.
Также и Святой Дух — Личность, ибо служит другим, утверждает Сына перед Отцом, доставляя Отцу и Сыну совершенную радость, всегда указывает на Сына и устремляется к Отцу, открывает Отцу и Сыну новый горизонт, который есть творение мира. И в этом развертывании мироздания Он «показывает» Отцу и Сыну существо, которое стремится войти в Их Троичное общение, — человека (см. подр.: (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 203–240)).
Отец показывает не Себя, но Сына и Духа. Сын показывает не Себя, но Отца и Духа. И Дух указывает не на Себя, но на Сына, Отца и человека. Лица, забывая Себя, раскрываются навстречу Другим, но Другие делают то же самое: забывая Себя, утверждают Других.
Следовательно, Троица показывает нам, что есть Личность. Она является основанием нашей свободы и совершенным примером личностных отношений (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 277).
Свобода личности в самоотдаче. При этом личность не теряет себя, но обретает.
«Божественная интерсубъективность Троицы, — утверждает митр. Каллист (Уэр), — модель и парадигма для всех человеческих взаимоотношений, модель и парадигма Церкви» (Staniloae: The Exp. of God , 1994, Intr.).
По примеру Божественных Лиц человеческая личность, раскрывая себя другим, отдавая себя, становится все более прозрачной для других, в то же время — и другие для нее. Отдавая себя, она вбирает в себя других, в конечном счете вбирает в себя весь мир, всю вселенную, становясь всечеловеком, по определению прп. Софрония (Сахарова) [Софроний Сахаров, 1999, 124]6. И эта личность, сохраняя свою уникальность и будучи прозрачной для Святого Духа, приводится Духом к Сыну и Отцу, обретая свой постоянный дом в обители Пресвятой Троицы (см.: (Staniloae: The Exp. of God , 1994, 271)).
Как отметил митр. Каллист (Уэр) в своем предисловии к «The Experience of God», Румыния находится между Востоком и Западом, и богословие проф. прот. Думитру Станилоэ — своеобразный мост между восточным и западным менталитетом (см.: (Staniloae: The Exp. of God , 1994, Intr.)).
Несомненным достоинством трудов и переводов прот. Думитру является просвещение Запада светом православия, о глубинах богословия которого там имеются самые скудные представления.
Еще одним достоинством нам видится введение нового языка для описания межличностных внутритроичных отношений: Intersubiectivitatea divina, Божественная интерсубъективность (Staniloae: Teol. Dogm. , 1996, 207).
В целом, можно с уверенностью сказать, что богословие Святой Троицы проф. прот. Думитру Станилоэ вносит существенный вклад в сокровищницу православной богословской мысли.