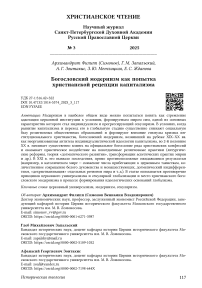Богословский модернизм как попытка христианской рецепции капитализма
Автор: Симонов В.В., Запальский Г.М., Зоитакис А.Г., Метлицкая З.Ю., Жданова Е.С.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Модернизм в наиболее общем виде можно попытаться понять как стремление адаптации церковной институции к условиям, формируемым миром сим, одной из основных характеристик которого стал индивидуализм и прогрессирующий секуляризм. В условиях, когда развитие капитализма и переход его в глобальную стадию существенно снижают социальную базу религиозных общественных образований и формируют внешние стимулы кризиса институционального христианства, богословский модернизм, возникший на рубеже XIX–ХХ вв. как неорганизованная антитеза индивидуалистической идеологии капитализма, во 2‑й половине ХХ в. начинает существенно влиять на официальное богословие ряда христианских конфессий и оказывает практическое воздействие на повседневные религиозные практики (литургические реформы, теория «догматического развития», трансформации аскетических практик мирян и др.). В XXI в. это вызвало последствия, прямо противоположные ожидавшимся результатам (например, в католическом мире — снижение числа прибегающих к церковным таинствам, количественное сокращение белого духовенства и монашествующих, догматический индифферентизм, «дехристианизация» отдельных регионов мира и т. д.). В статье описывается противоречие принципов церковного универсализма и секулярной глобализации и место христианского богословского модернизма в процессе формирования идеологических оснований глобализма.
Церковный универсализм, модернизм, секуляризм
Короткий адрес: https://sciup.org/140312297
IDR: 140312297 | УДК: 27-1:316.42+322 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_117
Текст научной статьи Богословский модернизм как попытка христианской рецепции капитализма
Gleb Michailovich Zapalsky
PhD, Associate Professor at the Department of Church History of the Faculty of History at the Lomonosov Moscow State University.
Afanasy Georgievich Zoitakis
PhD, Associate Professor at the Department of Church History of the Faculty of History at the Lomonosov Moscow State University.
Zoya Yurievna Metlitskaya
PhD, Associate Professor at the Department of Church History of the Faculty of History at the Lomonosov Moscow State University.
Ekaterina Sergeevna Zhdanova
PhD, Lecturer at the Department of Church History of the Faculty of History at the Lomonosov Moscow State University.
«Классический» модернизм начала ХХ в.
Рубеж XIX-ХХ вв. — время, когда становится явным несоответствие «традиционного» богословия и социально-экономических процессов, в рамках которых развивается церковная миссия. Церковь1 оказывается неспособной дать адекватный общественным потребностям времени ответ вызовам развивающегося капитализма — так же, как в начале Нового времени она не смогла сформулировать «конкурентное» видение мира в ответ на вызовы Просвещения и эпохи буржуазных революций.
Генезис и последующее развитие капитализма существенно изменяет не только социальную структуру общества, но и способы формирования и содержание социальной идеологии. Если ранее (даже в период Позднего Средневековья) можно было уверенно говорить, что основы общественного мировоззрения в Европе систематически и целенаправленно формировала Церковь, то с возникновением книгопечатания и особенно с началом эпохи Просвещения ситуация кардинально меняется.
Процесс формирования общественного сознания стремительно секуляризуется, оставаясь при этом не менее систематическим и целенаправленным. Мировоззрение, формируемое системой образования, становится все более материалистическим, расширяется влияние агностицизма и атеистических воззрений, возникает экономическая наука, для которой ранее не было социального заказа, под влиянием позитивизма кардинально меняется философия истории — апокалиптическая перспектива уступает место идее общественного прогресса, основанного на неких подлежащих наблюдению закономерностях (различных в разных школах).
Эпоха Просвещения положила начало не только идеологическому оформлению зарождающихся капиталистических отношений, но и длительному процессу нарастания в обществе секулярной мировоззренческой доминанты2, накладывающей отпечаток как на отношения Церкви с внешним миром, так и на внутрицерковные процессы.
Церковь теряет образованные и (под их влиянием) даже аристократические слои общества, где возникает некая нецерковная «духовность» — основанная на желании имеющих деньги и власть освободиться от морали, общественной и личной, носителем которой воспринималась Церковь. При этом религиозная часть процесса (внешняя манифестация в ритуальной форме) не опротестовывается — напротив, ритуальная сторона адаптируется, создаются собственные ритуальные модели (вроде культов Верховного Существа, Богини Разума и т. п.). Основной объем отрицания концентрируется на христианской вере, прежде всего — в ее морально-нравственной составляющей.
В период буржуазных революций процесс расширяется за счет пошатнувшейся религиозности буржуазии (пусть даже и ханжеской), а с переходом капитализма от стадии первоначального накопления к стадии промышленного капитализма по объективным причинам из-под влияния Церкви выходят рабочий класс и определенные слои мелкой буржуазии (включая крестьянство с его суеверной разновидностью христианства).
Падает религиозность общества в целом, социальная база существенно сужается .
В этих условиях внутри Католической Церкви и некоторых протестантских деноминаций возникают различные течения, ставящие перед собой задачу привести церковную проповедь в эффективное состояние, которое было бы адекватным для восприятия обществом в кардинально изменившихся условиях его существования и развития.
Так, в рамках протестантизма начинается движение, пытающееся совместить различные догматические позиции в целях объединить усилия всех деноминаций в данном направлении: Ламбетские конференции англикан с привлечением иных деноминаций (особенно третья, 1888 г., где были приняты экуменические Lambeth Quadrilateral ), общественные форумы протестантских деноминаций в США, иные международные коллоквиумы (в том числе с участием православных во главе с Вселенским Патриархатом), результировавшие в институциональное оформление в 1948 г. экуменического движения в виде Всемирного совета церквей (ВСЦ), ставшего одним из институциональных механизмов формирования базиса современной глобализации, охватывающей все сферы активности современного общества.
Эти события вполне можно рассматривать как некий водораздел между реформационными идеями и идеями модернистского направления3.
Модернизм как специфический социально-религиозный феномен формируется в рамках институционализированных религиозных объединений в тот момент, когда акцент социально-религиозного поиска смещается с попыток отыскать и восстановить «первоначальную чистоту» (веры, организационной системы и регулятивных принципов ее функционирования, способов внешней манифестации веры и т. д.) на попытки (обычно обосновываемые миссионерскими целями) привести исповедуемые вероучительные основы и принципы в соответствие тому способу мировосприятия, который становится основным (господствующим) в эпоху, современную проводникам «идей обновления» (в этом контексте принцип аджорна-менто , под знаком которого состоялся II Ватиканский Собор и реализовались его базовые идеи, уже лингвистически является модернистским).
Модернизм — попытка не то чтобы «защитить» веру («Бог поругаем не бывает», Гал 6:7), но, скорее, представить обществу христианскую альтернативу оккультным, в существенной степени политизированным религиозным процессам, спровоцированным социальными верхами, причем представить в форме, адекватной изменившемуся общественному сознанию 4, чтобы достичь необходимой степени понимания и даже эмпатии и обеспечить тем самым реальную индоктринацию в кардинально изменившихся социально-экономических условиях.
Одна из исходных модернистских идей состоит в том, что евангельская и патристическая письменность ориентирована не только на религиозные проблемы, но и на жизненные проблемы, современные писателям5.
Модернизм развивался от индивидуальных попыток разработать систему адаптации Церкви к изменившимся внешним общественным условиям (политическим, экономическим, организационно-социальным, мировоззренческим
-
5 Анонимное высказывание, отлично иллюстрирующее данный подход: «If you want to understand the ‘ phronema ’ of the Church, or Patristics in general, you really need to do a lot of studying in various topics seemingly unrelated to Christianity, but vital to actually ‘getting it’. Obviously, Greek and Roman cultures are where most of the focus is, but there are some essentials aside from just basic history. Here is a partially comprehensivalist: law, philosophy, religions (there were a lot actually), commerce, physiology (notions of the body and mind, especially the senses), magic and witchcraft (these were also legal issues, but also a bit into medicine), ‘alchemy’ and physical sciences, slavery and domestic life, honour (particularly the gladiator games, theatre, and social structures). These all played a role in how the Gospel was first applied to the general populace of the time , and not only the problems the Church was addressing but also how it would address them.
Too often we want to plunge head — first into reading Patristics with the assumption that the Fathers are talking to us . They weren’t . They were talking to our forefathers in a context different from our own. Though the Faith is timeless, and the Fall is universal, there are differences. Once you can appreciate those differences, you will actually see even more clearly the wisdom, the practicality, and the beauty of the advice and counsel of the Fathers. It becomes less jarring and cumbersome, and is filled with compassion and righteousness. <…> The danger is to assume that how they addressed the problems of their time is exactly how they would deal with us now. Not so, just as even now our regional churches all have varying practices while maintaining the same Faith».
(«Если вы хотите понять „ фронему “ Церкви или патристику в целом, вам действительно нужно глубоко изучать различные темы, на первый взгляд не связанные с христианством, но жизненно важные для того, чтобы действительно „вникнуть в суть“. Очевидно, что основной фокус — греческая и римская культура, но есть и некоторые существенные аспекты, помимо базовой истории. Вот что нужно для хотя бы отчасти комплексного подхода: право, философия, религии (их реально было много), торговля, физиология (понятия тела и разума, особенно чувств), магия и колдовство (это тоже были юридические вопросы, но отчасти и медицинские), „алхимия“ и физические науки, рабство и домашняя жизнь, [общественный] почет (особенно гладиаторские игры, театр и общественные институции). Все это в совокупности играло роль в том, как Евангелие впервые было представлено широким слоям населения того времени , и не только в тех проблемах, которые решала Церковь, но и в том, как она их решала.
Слишком часто мы хотим с головой окунуться в чтение патристики, предполагая, что отцы обращаются к нам . Но это совсем не так . Они говорили с нашими предками в контексте , отличном от нашего. Хотя Вера вневременна, а Грехопадение — всеобще, существуют различия. Как только вы сможете оценить эти различия, вы еще яснее увидите мудрость, практичность и красоту советов и наставлений Отцов. Они становятся менее резкими и громоздкими и наполняются состраданием и праведностью. <…> Опасно предполагать , что их подход к решению проблем своего времени должен бы быть точно таким же, как к нам и нашим современным проблемам. Это не так, точно так же, как наши региональные церкви поддерживают ныне разные практики, сохраняя при этом одну и ту же Веру» (курсив везде наш. — Авт .)).
Из совершенно истинной посылки (понять адекватно текст возможно только в том случае, если известны и понятны исторические реалии его происхождения и бытования) возможно получить совершенно модернистские выводы (в духе «богословской рецепции» и «догматического развития» — последнее не упомянуто, но отлично вытекает: древнее изложение догматов как сути веры и ее содержания было на древнем языке, понятном древним, а «новое» должно быть на «новом», современном языке, доступном пониманию современников, хотя смысл в итоге может существенно искажаться, достаточно взглянуть на новейшие переводы из серии Good News Bible ): то, что в апостольские и отеческие времена было записано на живом разговорном, а потому общепонятном языке, теперь следует «приспособить», фактически — перевести на новые разговорные языки (здесь встает проблема адекватности перевода, но в Новейшее время ей не уделяется должного внимания: переводчики ставят себя фактически на одну доску с апостолами и отцами — видимо, подразумевая, что имеют аналогичную харизму, и покрывается все это «богатством церковной традиции», причем традиция и ее интерпретация далеко не всегда отделяются друг от друга).
и др.) к институциональной рецепции этих условий с соответствующим воздействием на внутриинституциональные теоретические и организационные составляющие Церкви как специфической общественной подсистемы. Еще один вектор движения, если рассматривать его хронологически широко, — от поиска «новых слов» (способов, путей) для выражения старых истин, чтобы, по словам св. Викентия Лиринского, люди могли «почитать разумом то, что́ ранее почитали в простоте» [Vincent of Lérins, 1915], к вкладыванию нового смысла через «новые слова» (введение новых догматов, изменение трактовок, требований и правил и проч.), что в итоге может вывести в пространство ереси, как она определена свт. Василием Великим.
Почти сразу течение становится поликонфессиональным: за рамками католицизма оно затрагивает Англиканскую церковь и ряд протестантских деноминаций.
Строго научного или строго богословского определения модернизма никто никогда так и не дал: по крайней мере, такого определения, которое стало не то чтобы общепринятым, но как минимум снискало бы некое более или менее широкое общественное признание.
Историческая фабула известна. Термин, почти случайно предложенный еще Руссо, был возвращен в научный оборот в 1881 г. аббатом Переном («Модернизм в Церкви согласно неизданным письмам Ламенне»), выделившим абсолютный модернизм — как «стремление полностью исключить Бога из социальной жизни», и умеренный модернизм — как «либерализм любого толка и оттенка» [Périn, 1881, 5]. Само же идеологические течение продолжило свое развитие, особенно в Италии, а также во Франции и, в менее радикальном виде, в Англии, Германии и Бельгии. Появляется ряд модернистских периодических изданий. Как пишет папа Пий X, к кон. 1900-х гг. «ядовитые учения» охватили как «лаиков», так, к глубокому прискорбию Святого Престола, и католический клир6.
Литература более или менее уверенно говорит о том, что богословский модернизм представляет собой некую реализацию на конфессиональной почве идей философского модернизма, основанного, в свою очередь, на конкретно-исторических исследованиях в области церковной истории и философских идеях XVIII в., нацеленных на реализацию в обществе радикальных мировоззренческих изменений7.
Важное замечание: католический модернизм, давший название всей проблеме в религиозной сфере, по содержанию и смыслу отличен от модернизма (по У. Эко — авангардизма) в литературном и художественном творчестве и в иных сферах общественной деятельности.
Религиозный модернизм (как термин, призванный описать события нач. ХХ в.) — попытка не уничтожить или опротестовать прошлое, а, напротив, найти пути адаптации его к существующей социальной реальности.
Те явления, которые развиваются во время, когда в секулярном обществе начинается постмодернизм с его всепроникающим релятивизмом8, в определенной степени можно рассматривать как аналогичные авангарду в искусстве ( аджорнаменто и II Ватиканский Собор, «догматическое развитие», «герменевтика реформ в развитии», подавление тридентской (термин условен) литургической традиции и внедрение novus ordo 9; на уровне ВСЦ — экуменическое богословие; и проч.): в силу консервативности института религиозная сфера запаздывает.
Чем дальше по времени от Христа, тем больше институциональная Церковь сосредоточивается на самой себе10 (особенно с началом эпохи Просвещения — до этого времени религиозность общественного мировоззрения выглядела незыблемой; Просвещение пробивает дорогу нерелигиозным воззрениям в общественном масштабе — во всей полноте этот факт реализовался в ХХ в.) — на материальной самозащите, фактическом самосохранении (тем самым подвергая общественному сомнению один из основных пунктов христианской экклезиологии: Христовой Церкви на мистическом уровне — основном уровне ее существования, к которому стремится и с которым недовольства духовенства , неспособного без чувства унизительной театральности [ humiliating theatricality ] совершать традиционные церковные обряды и церемонии. Теперь перевод Библии и новые гимналы явились одновременно с новыми службами, и во всем этом многие увидели не просто эстетическую катастрофу, но и доктринальную ересь. Ведь сакраментальная церковь — это не просто место, где люди собираются вместе, чтобы манифестировать свою приверженность некоему набору законов или усвоить принципы библейского богословия. Это место, куда люди приходят, чтобы встретиться с Богом, предстоять Ему и с возобновленным трепетом взглянуть на печальный факт своего собственного существования и на необходимость быть в повседневной жизни тем, чем они волей-неволей должны быть [ perforce must be] в Церкви, — смиренными членами Тела Христова» [Scruton, 2013]; (курсив наш. — Авт. ).
Следует отметить, что некоторые предпосылки т. н. «литургической реформы II Ватиканского Собора» вызревали длительное время. Так, исследователи не пришли к единой оценке деятельности папы Пия XII в этом контексте, в связи с чем сложилось два подхода к пониманию его литургических преобразований: одни считают Пия XII последним «дособорным» папой, сохранившим тридентскую традицию неизменной; другие трактуют литургические изменения, случившиеся в 40–50-е гг. ХХ в., как изменение тридентской практики. Последний взгляд кажется более обоснованным, так как именно Пий XII не только сосредоточил внимание на проблеме литургической реформы, но и предложил некоторые решения, получившие развитие в дискуссиях участников II Ватиканского Собора.
Энцикликой Divine Afflante Spiritu (1943) папа фактически допускает использование историкокритического метода в богословии. Энциклика Mediator Dei (1947) — отправная точка литургической реформы понтифика, — в частности, позволила, при безусловном сохранении доминанты латыни в богослужении, в некоторых случаях использовать национальные языки; говоря о необходимости преодоления литургической пассивности мирян, папа подчеркивал всеобщий характер церковного поклонения: молитва Христу возносится всей Церковью — Его мистическим Телом, которое состоит не только из клира, но и из мирян. Созданием в 1948 г. Комиссии по литургической реформе (в нее вошел и А. Буньини, позже — фактический творец novus ordo Missae ) было положено начало официальной реформы; деятельность комиссии (секретная до обнародования первых результатов ее заседаний в 1951 г.) продолжалась до 1960 г., итогом стали восстановление в 1951 г. пасхального навечерия, частичное сокращение евхаристического поста в 1953 г., упрощение рубрик бревиария и миссала и реформа церковного календаря. Декретом Maxima Redemptionis (1955; вступил в силу в 1956 г.) был восстановлен чин Страстной седмицы, изменивший время служб и уточнивший правила поста.
-
10 Об этом говорят даже самые традиционалистские рассуждения, из которых следует, скажем, тревога касательно видимой Церкви, взволнованность перспективами Церкви в ее институциональном аспекте , — словно иного измерения, того, где врата адова не одолеют ей (Мф 16:18), того, которое и составляет сущность и бытие Церкви Христовой, либо нет, либо от него ораторы абстрагируются.
См., напр.: «If this issue (в данном случае речь о Fiducia supplicans , но таких конкретик множество. — Авт .) is not be resolved at the meeting, the future of the Church (вот о чем речь: о будущем институциональной системы. — Авт .) will be very uncertain (именно этот оборот говорит о том, что речь — только об институте: Христово обетование не дает никаких оснований сомневаться, даже и говорить о будущем онтологической Церкви Христовой, богочеловеческого живого организма, нечто иное, чем сказано Самим Христом. — Авт .), because some friends of the patriarch and the pope who insist on changing Church traditions continue to vigorously promote their plans» [Haynes, 2024]; (курсив наш. — Авт. ).
Каково бы ни было «будущее» институциональной, человеческой Церкви, т. е. особенности ее бытования в этом мире ранее, теперь и далее, доколе будет существовать время, — оно не может иметь сущностного влияния на бытие онтологической Церкви в ее довременном, временном и поствременном выявлении.
в конце концов воссоединится Церковь земная, — ничто не может угрожать ей, она существует от века даже и до века в лице Главы-Христа (ср.: Еф 4:15), «и врата адова не одолеют ей» (Мф 16:18) в зримой физической и в познаваемой верой метафизической перспективе).
Стремясь сохранить материальный институт, институциональная Церковь дезавуирует в общественном сознании его мистическую сущность.
В Новейшее время, основной характеристикой социальной ментальности которого является минимизация или полное отсутствие формальной религиозности (о совершенном атеизме говорить нельзя — на уровне индивидуальной ментальности даже «нерелигиозных» людей слишком много стихийных и плохо систематизированных суеверий), подобного рода методы «сохранения» или «защиты» имеют для религиозной формы общественного сознания исключительно деструктивное значение: Сатурн пожирает своих детей.
В сказанном смысле совсем не все идеологические течения, признанные модернистскими, к примеру, в основополагающем антимодернистском документе Pascendi Dominici gregis , можно считать модернистскими в строгом смысле слова — например, агностицизм (явление, совершенно не новое ко времени появления энциклики)11.
Институциональная реакция на новое явление церковной жизни с ходом истории динамизировала от реактивной позиции в сторону проактивной позиции .
Святой Престол реагирует на новое течение ситуативно и с определенным запозданием — если не считать такой реакцией энциклику папы Пия IX Quanta cura (1864), где термин «модернизм» не был употреблен, но осуждались буржуазнодемократические и секуляристские тенденции, подразумевающие принципы свободы совести и свободы вероисповедания. Сопровождавший энциклику Силлабус ничего специфического в данном контексте не содержал.
Первые конкретные проявления институциональной реакции (Рождественские послания некоторых итальянских епископов) были локальными и относятся к 1905–1906 гг. Сам термин, характеризующий новое явление, явился тоже ситуативно и потому описателен, аморфен и в целом малосодержателен (как и более поздний термин из той же серии — «американизм»).
В этой связи, однако, возникает сущностный вопрос: почему традиционных форм воздействия Церкви на общество — в виде Index librorum prohibitorum и энциклики Пия IX — оказалось недостаточно для торможения и ликвидации процесса и потребовались новые вероучительные и канонические документы, форма и содержание которых, однако, также оказались вполне традиционными, и что от них ожидалось в сравнении с уже принятыми мерами?
В 1907 г. была издана книга «Модернизм и модернисты» аббата Кавалланти [Cavallanti, 1907], в которой автор впервые предлагает дефиницию этого уже весьма не нового течения общественной мысли и практики.
Дефиниция получилась более эмоционально-гомилетической, нежели научной: «Модернизм — это ложно понятая современность; это — болезнь совести католиков, особенно молодых, которые исповедуют многообразие идеалов, мнений, течений. Время от времени эти течения вырастают в системы, которые призваны обновить базис и надстройку общества, политику, философию, теологию, саму Церковь и христианскую религию».
Модернизм, по Кавалланти, «соотносится с современностью, как капитализм с капиталом или милитаризм с армией… Модернизм науки и практики начинаются с ложного критерия и, фактически, — это специфическая ошибка (Великой французской. — Авт.) Революции — реализуются в обвинении и тотальном подавлении прошлого, потому что оно прошлое, и в одобрении и тотальном принятии нового, потому что оно новое».
Модернизм — это «претензия духа современности определять, что верно, правильно и хорошо в свете его собственного опыта, даже если его индивидуальные заключения противоречат традиции... его интеллектуальная задача — критика традиции в более широком контексте исследований и опыта, с тем чтобы сформулировать и по-новому интерпретировать ее для того, чтобы она обслуживала потребности века сего». Это «доктринальное движение, которое имело [первоначальной] целью гармонизировать с постулатами современного субъективизма фундаментальные догматические принципы христианства, но закончило тем, что их компрометирует и разрушает в тех пунктах, которые Церковь считает основополагающими» (см. подр.: [Cavallanti, 1907, 7, 12-13, 25]), и преследует цель приспособить католицизм к интеллектуальным, моральным и социальным потребностям сегодняшнего дня, с тем чтобы быть едиными со всеми католиками, но жить в гармонии с духом времени (см.: [Buonaiuti, Fracassini, 1908, 5]).
Систематизированный до некоторой степени официальный ответ — известные декрет Конгрегации священной канцелярии Lamentabili sane exitu и энциклика Пия Х Pascendi Dominici gregis — явился в 1907 г., но, как и ранее появившаяся литература, он сосредоточился на систематическом анализе отдельных доктрин, объединяемых в документах понятием «модернизм».
Однако попытка анализа существа явления сведена к причинам исключительно субъективного свойства: с моральной точки зрения — к извращению ума, любопытству и гордыне (« Proximam continentemque causam in errore mentis esse ponendam, dubitationem non habet. Remotas vero binas agnoscimus, curiositatem et superbiam »), с интеллектуальной — к невежеству ( ignorantia ), вознамерившемуся составить систему из соединения веры и ложной философии (см.: [ Pascendi § 40–41]).
Никоим образом не освещена роль развивающегося капитализма как основного триггера процесса: изменение мира вызывает необходимость изменения Церкви в соответствии с изменившимися социальными потребностями и возможностями общества в плане абсорбции церковной проповеди (ввиду невозможности изменить мир церковными средствами).
Соответственно, и дефиниции не возникло — прежде всего с позиций выявления объективных причин и исторических предпосылок явления; составился лишь некий открытый список, куда, по желанию, можно включить любое «новшество», которое курии покажется сомнительным или опасным.
Не исключаем, что нежелание вплоть до настоящего времени дать точную дефиницию связано: 1) с тем, что невозможно говорить о процессе только в негативной коннотации — нечто в нем имело для Церкви смысл насущной необходимости (свидетельство — отмена антимодернистской присяги); 2) с тем, что II Ватиканский Собор фактически реализует идеи модернистов, многие из которых работали на Соборе в качестве экспертов, а потом стали кардиналами.
Указанные документы имели в институции важное практическое значение, но с теоретических позиций их значение свелось лишь к закреплению термина «модернизм» за неопределенным конгломератом философских, исторических, политических и иных учений, так или иначе связанных с Католической Церковью (коль скоро смысл модернизма определен как « собрание всех ересей»: « Iam systema universum uno quasi obtutu respicientes, nemo mirabitur si sic illud definimus, ut omnium haereseon conlectum esse affirmemus », — переводы на европейские языки обычно говорят о «синтезе ересей», что нам кажется преувеличением: папа пишет именно о дискретной совокупности, конгломерате [ con - + lectio ], без некоего взаимопроникновения и образования на этой основе нового качества — какой-то синтетической «всеереси»; против «синтетичности» говорит и общий контекст антимодернистских документов).
Дальнейший ряд событий — публикация как ответа на Pascendi брошюры Il Programma dei modernisti [Buonaiuti, Fracassini, 1908], ряд папских и куриальных документов с суровыми угрозами, серия экскоммуникаций, наконец, введение в 1910 г. антимодернистской присяги — всем известен. Известен и результат: неудача как попыток противостояния тем теориям, которые были поставлены в центр анти-модернистской кампании Святого Престола, так и противодействия стремительно нарастающей секуляризации общественного сознания.
Как реактивный ответ следует оценивать и реализованные попытки Католической Церкви создать некую логически организованную социально-экономическую теорию (как отрасль богословия). При этом Церковь (и не только Католическая, надо сказать) устойчиво следует в фарватере буржуазной экономической мысли, аккуратно приспосабливая «социально-экономическое богословие» к содержанию господствующей в науке в конкретное историческое время теории — начиная от тред-юнионизма Льва XIII, первым, к его чести, озаботившегося проблемой лакуны в богословии касательно описания живых экономических реалий, и вплоть до попыток облечь буржуазную политическую экономию — в конкретном случае economics — в форму богословия, в результате чего появилось лоскутное одеяло компилятивного «Компендиума социального учения Католической Церкви» (Compendium of the social doctrine of the church, 2004), собранного из разрозненных папских цитат, систематизированных в соответствии с велениями времени, которые определялись на момент появления документа неолиберальной экономической теорией (о том, что, помимо прочитанной авторами документа монетаристской монографии, есть и другие печатные издания, им, видимо, никто не сказал).
При этом основная задача, решавшаяся в названной области в течение всего ХХ в., свелась к тому, чтобы приспособить живого католика-работника (не важно — в промышленной или аграрной сфере) к потребностям живого капиталиста — не обязательно католика, но обязательно — собственника средств производства и финансового капитала и организатора рынка (свободного, монополизированного, государственно регулируемого — в зависимости от обстоятельств времени и места).
Неудачные адаптивные меры (включая сюда и те, что сделали из священника социального работника, против чего неоднократно высказывались последние по времени папы12) привели к формированию во время, определяемое как постмодерн 13, релятивистской идеологии и практики.
Что касается проактивной позиции, она реализовывалась в двух основных потоках: один из них развивался вне официальной поддержки (в католицизме — теология освобождения; движение священников-рабочих; в иных конфессиях — варианты «неообнов-ленчества»14 и др.), другой стимулировался и реализовывался на официальном уровне (литургическое движение; аджорнаменто и II Ватиканский Собор; Novus ordo missae ; теория «догматического развития» будущего кардинала Дж. Г. Ньюмана, изначально прокатолическая, но в исторической перспективе получившая экуменическую окраску; и проч.), что часто трактуется как «длящееся реформирование» ( reform in the continuity )15. В целом можно сказать, что в наблюдаемой реальности проактивное движение развивается (как сказано: Господь удовли нас служители быти Нову Завету , не писмени , но духу : писмя бо убивает , а дух животворит (2 Кор 3:6; ср.: Ин 6:63)) в двух основных системах координат: законнической , в которую чаще всего выливается традиционализм16, и новаторской , куда обычно ведут модернизаторские усилия, самочинно берущие на себя функцию: се , нова вся творю (Апок 21:5), которая им явно не принадлежит.
Особняком в этом контексте стоит движение коливадов17, возникшее как традиционалистский ответ духу века сего, в качестве альтернативы Реформации в западном христианстве18 и идеологии европейского Просвещения, с целью возращения к живой святоотеческой традиции, к осознанному участию в церковных таинствах (прежде всего — частое причащение), к аскетической практике и умной молитве.
Движение коливадов имеет много параллелей с паламитским возрождением XIV в., его идеологи апеллировали к исихастской традиции, но при этом не были консерваторами, не продуцировали «повторительного богословия» (в рамках «фи-локалического возрождения» появилось много оригинальных текстов). Внутренней интенцией коливадского движения было желание ответить на острые вызовы современности на основе церковного Предания. При этом они не были привязаны к букве, следование традиции не означало обращенности в прошлое и необходимости реанимации древних практик.
Одной из основополагающих идей «филокалического возрождения» было регулярное и частое участие в Таинстве Евхаристии (несомненное новшество, как минимум в контексте установившейся практики того времени). Не противореча традиции, а творчески ее осмысляя, коливады предлагали частое причащение как решение актуальных проблем: 1) «„атомизации экклезиологического пространства“ — индивидуализации церковного бытия церковных членов с соответствующей утратой „эккле-зиологического сознания“, происходившей под влиянием специфических искушений внешнего мира того времени: лишь участие в Евхаристии могло связать воедино распадающиеся миры «индивидуумов» Церкви; 2) практика частого причащения, распространяемая колливадами, имела и другой смысловой аспект: человек Нового времени, одолеваемый многочисленными искушениями, оказывался неспособен к суровой аскезе; частые и небольшие личные усилия, синергийно необходимые для участия в таинстве, могли дать более действенный и глубокий результат евхаристического соединения человека со Христом, чем практика значительной подготовки, соответственно сочетаемая с редким причащением» [Легеев, 2019, 64–65].
Коливады неизменно придерживались принципа сочетания акривии и икономии: в догматической сфере возможна только акривия, в сфере канонов они стремились к акривии, но допускали икономию. Потерпев поражение в «коливадских спорах» (священноначалие поддержало практику поминовения усопших по воскресным дням), коливады не ушли в раскол, а подчинились решению патриархии (именно потому, что речь шла не о вопросе догматическом). Один из лидеров «филокаличе-ского возрождения» Никифор Феотокис (грек, в конце жизни переехавший в Россию и ставший архиепископом Астраханским и Ставропольским) известен как архипастырь, предпринявший первые практические шаги в решении проблемы старообрядческого раскола, один из основоположников единоверия (еще до появления самого этого термина). Уврачевание русского раскола на принципах икономии также вполне вписывалось в концепцию коливадов.
Движение предполагало «выход в народ»: открытие школ и обеспечение их учебной литературой, донесение своих идей с помощью странствующих проповедников, литературно-богословскую и издательскую деятельность, ориентированную на широкие слои Церкви; переводы святоотеческих творений с книжного на разговорный язык и участие в международном издательском сотрудничестве (см. подр.: [Зоитакис, 2008; Легеев, 2019]). Призыв «всем учиться грамоте» был по тем временам революционным и органично вписался в общую идеологическую платформу традиционалистов, учение которых было подчеркнуто обращено к максимально широкой аудитории: к «мирянам и монахам», «мужчинам и женщинам, родителям и детям».
В отличие от консервативных клириков, коливады не были настроены априори антизападнически. В учебном процессе и при написании своих сочинений они использовали современную европейскую научную литературу и даже занимались ее переводом на греческий язык.
Коливады полагали, что в библейском Откровении и духовном опыте святых и подвижников сконцентрирован огромный антропологический и педагогический опыт, хранящийся в церковном Предании и передающийся из поколения в поколение в живом преемстве.
Участники «филокалического возрождения» были убеждены, что главные установки христианской жизни не обращены лишь к монахам, а имеют общечеловеческий смысл, и потому в каждой ситуации должен быть некий способ и путь следования этим установкам, пусть и не в абсолютной полноте. Представление об универсальности исихастской практики не только для монашества, но и для мирян стало стержнем активности коливадов: участники «филокалического возрождения» подчеркивали актуальность традиции непрестанной молитвы. Преподобный Никодим Святогорец, например, утверждал, что миряне «также должны заниматься духовным деланием, свойственным монахам, но вмененным в обязанность мирским людям». При этом традиционалисты отвергали обвинения в том, что навязывают мирянам правила «живущих вне мира монахов», и противопоставляли «аскетическое творчество» восприятию аскезы европейским Просвещением, которое видело в ней только запреты и ограничения.
Как бы то ни было, уже в межвоенный период в литературе под обобщающим термином «модернизм» понимается конгломерат движений в ряде сфер общественной активности, возникших в Римской Церкви в кон. XIX в. спонтанно и независимо друг от друга (en entière indépendance l’un par rapport à l’autre) и вдохновленных стремлением «привести традицию христианской веры и практики в более тесное соответствие (plus étroite corrélation) с интеллектуальными привычками и социальными устремлениями нашего времени» (см. подр.: [Симонов, 2020; Симонов и др., 2025])19, а само явление устойчиво считается проявлением религиозного кризиса , возникшего в последней декаде ХIХ в. (см.: [Rivière, 1929]).
Дефиниция, казалось бы, достаточно объективная, однако настоятельное акцентирование спонтанности явления (т. е. отсутствия для него объективных предпосылок в рамках общественной системы) указывает на его ограниченность в качестве аналитического инструмента. Тем не менее все последующие попытки подойти к созданию научного определения модернизма вращаются именно в подобной системе координат.