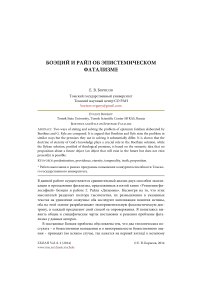Боэций и Райл об эпистемическом фатализме
Автор: Борисов Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется сравнительный анализ способов постановки и решения проблемы эпистемического фатализма, представленных у Боэция и Г. Райла. Демонстрируется, что Боэций и Райл ставят проблему сходным образом, но их решения базируются на разных предпосылках. Показано, что 1) в решении Боэция существенную роль играет этерналистская трактовка божественного знания; 2) Райл отказывается от теологической онтологии и опирается в своем решении проблемы на семантический тезис, согласно которому пропозиция об объекте невозможна до начала существования последнего.
Предопределение, провидение, вечность, временность, истина, пропозиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147103382
IDR: 147103382
Текст научной статьи Боэций и Райл об эпистемическом фатализме
* Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.
В данной работе осуществляется сравнительный анализ двух способов экспликации и преодоления фатализма, предложенных в пятой книге «Утешения философией» Боэция и работе Г. Райла «Дилеммы». Несмотря на то, что этих мыслителей разделяет полтора тысячелетия, их размышления в указанных текстах на удивление созвучны: оба исследуют импликации понятия истины, оба на этой основе разрабатывают экспериментальную фаталистическую доктрину, и каждый предлагают свой способ ее опровержения. Я попытаюсь выявить общие и специфические черты постановки и решения проблемы фатализма у данных авторов.
В постановке Боэция проблема обусловлена тем, что два теологических постулата – о божественном всеведении и о непогрешимости божественного знания – приводят (во всяком случае, так кажется на первый взгляд) к нелепому
ΣΧΟΛΗ Vol. 8. 2 (2014)
тезису о полной предопределенности всех событий. Иначе говоря, проблема состоит в противоречии, содержащемся в следующих трех тезисах:
-
1) Относительно некоторых произошедших событий верно, что они могли не произойти, и относительно некоторых событий, которых мы ожидаем в будущем, верно, что они могут не произойти. Иначе говоря, каузальная детерминация не абсолютна, т. е. не определяет происходящие события во всех деталях: «…то, что произойдет в будущем, не является необходимым до того момента, когда происходит, а не обретя существования, не содержит необходимости появления в грядущем» (Боэций, Утешение философией, 5.4; здесь и далее: пер. В. И. Уколовой и М. Н. Цейтлина; Боэций 1990).
Для нашей темы важно темпоральное измерение каузальной детерминации: речь идет о предопределении события причинами, предшествующими ему во времени. Боэций допускает существование вполне предопределенных (необходимых) событий, но утверждает, что таковыми являются не все события. Например, о восходящем солнце и идущем человеке он говорит: «для солнца действие было необходимым еще до того, как оно начало свершаться (курсив мой – Е. Б.), а для человека – нет» (там же, 5.6). Абсолютная предопределенность всех событий сделала бы невозможными искусные действия («не имело бы цены искусство, если бы все свершалось по необходимости» – там же, 5.4) и мораль («нет смысла в наградах добрым и в наказаниях дурным людям, так как они не заслужены свободным… выбором души» – там же, 5.3). По этой причине Боэций концентрирует свое внимание на практическом аспекте данной темы – проблеме свободы воли. Для нас, однако, существенна проблема детерминации в общей постановке и ее темпоральный аспект. Итак, первый тезис Боэция состоит в ограничении каузальной предопределенности событий в темпоральном измерении.
-
2) Божественное знание всеобъемлюще в том смысле, что охватывает все события (в том числе будущие) во всех деталях: «Бог предвидит все» (там же, 5.3).
-
3) Божественно знание не может быть ошибочным («допустить такое не только недостойно, но и дерзко» – там же, 5.3).
Тезисы 2 и 3 имеют (как кажется) следствием концепцию, которую я буду называть эпистемическим фатализмом. Предпосылкой эпистемического фатализма является вполне очевидное обстоятельство: если знание о некотором факте истинно, то данный факт имеет место. Скажем, если некто знает, что Боэций был проницателен, и если это знание истинно, то очевидно, что Боэций был проницателен. Истина делает факт необходимым в том смысле, что если мы принимаем посылку об истинности некоторого знания, то мы обязаны сделать вывод, что соответствующий факт имеет место. Сама по себе эта предпосылка вполне невинна, но в сочетании с тезисами 2 и 3, гласящими, что бог имеет истинное знание обо всем, приводит (как кажется) к обескураживающему следствию: все предопределено. Коль скоро бог знает обо всех событиях, которые произошли, происходят или произойдут, все события необходимы: ни про одно из них нельзя сказать, что оно могло бы не произойти в прошлом или может не произойти в будущем.
Отметим, что эпистемический фатализм кардинально отличается от каузального детерминизма по следующим основаниям:
– С точки зрения каузального детерминизма, события предопределены каузальными связями с другими событиями; эпистемический же фатализм рассматривает событие как детерминированное эпистемической связью между истиной и фактом.
– При этом главный тезис каузального детерминизма – тезис о каузальной связи между событиями – имеет характер эмпирически мотивированного допущения и потому не является вполне достоверным.1 Тезис же, лежащий в основе эпистемического фатализма – что истинность знания делает необходимым соответствующий факт, – имеет аналитический характер: содержится в понятии истины. В этом смысле эпистемический фатализм, при всей его экзотичности, может даже претендовать на статус необходимой истины.
Решение данной проблемы, предложенное Боэцием, основано на этернали-зации божественного знания, т. е. на его трактовке в качестве вневременного. Противоречие между тезисом 1 с одной стороны и тезисами 2 и 3 с другой иллюзорно, говорит Боэций, поскольку тезис 1 предполагает темпоральное соотношение детерминирующего и детерминированного как предшествующего и последующего, тогда как божественное знание не имеет временной локализации и, следовательно, не может быть субъектом темпоральных отношений. Вечность как характеристика бога – это не беспрестанность (бесконечная длительность) во времени (там же, 5.6), но вневременность. В эпистемическом аспекте это означает, что то, что для нас (временных существ) является прошлым и будущим, для бога является предметом непосредственного созерцания (как для нас – настоящее). Поэтому если для нас будущее – это предмет прогнозов и гадания, то для бога оно – предмет непосредственного, и потому достоверного знания:
… правильно будет определить его знание (о событиях, которые для нас являются будущими – Е. Б.) не как предзнание будущего, а как непогрешимое знание нескончаемого настоящего. Вследствие этого его лучше называть не предвидением, но Провидением… (там же, 5.6).
Каузальную детерминацию события предшествующими событиями, если она полна, Боэций называет простой необходимостью; эпистемическую связь между истиной и фактом – условной (там же, 5.6). В этих терминах решение Боэция получает следующую лаконичную формулировку: «условная необходимость не влечет за собой простой необходимости» (там же). Поскольку тезис 1 ограничивает именно простую необходимость, а тезисы 2 и 3 утверждают неограниченность условной необходимости, противоречие устраняется. В развернутом виде данное рассуждение можно представить следующим образом:
– Пусть событие С является не вполне детерминированным, т. е. верно, что оно могло не произойти, и пусть это событие наблюдает некий наблюдатель Н.
– Знание, которое Н получает о С, истинно, следовательно, оно делает С условно необходимым. Однако оно не делает С просто необходимым, поскольку возникает вместе с С и, таким образом, не может предшествовать С во времени.
– Аналогичным образом божественное знание о любом событии (даже о событиях отдаленного будущего) не предшествует ему и потому не делает его просто необходимым (хотя, конечно, делает его условно необходимым).
Итак, этернализация божественного знания выводит его из временных отношений и тем самым устраняет возможность заключения от тезисов 2 и 3 к тезису эпистемического фатализма.
Г. Райл в тарнеровских лекциях 1953 г. «Дилеммы» предлагает постановку проблемы фатализма, которую можно рассматривать как модификацию постановки этой проблемы у Боэция.2 Вариант Райла интересен тем, что он устраняет некоторые онтологические предпосылки, на которых существенным образом базировалось решение Боэция, тем самым лишая решение Боэция силы и актуализируя проблему. Аргумент фаталиста – концептуального персонажа Г. Райла – таков:
Вчера вечером я в определенный момент кашлял, а в другой определенный момент лег спать. Следовательно, в субботу было истинно то, что в воскресенье в одно время я буду кашлять, а в другое – отправлюсь спать. В самом деле, и тысячу лет назад было истинно, что в определенные моменты в определенное воскресенье тысячу лет спустя я буду кашлять, а потом лягу спать. Но если это было истинно заранее – всегда заранее, – что я буду кашлять и лягу спать в эти два момента в воскресенье 25 января 1953 года, то, значит, я не мог этого не сделать (Райл 2000, 382).
Как видим, фаталист Райла, как и лирический герой Боэция, апеллирует к связи между истиной и соответствующим фактом: оба суть сторонники эпистемиче-ского фатализма. Однако аргументация фаталиста Райла имеет две существенные особенности: он отказывается от теологической онтологии и восстанавливает темпоральный аспект истины. Эксплицируем эти особенности.
-
1) Фаталист Райла рассматривает истину как чистую возможность, не воплощая ее в божественном знании или пропозициональной установке конечного субъекта и не предполагая для нее какого бы то ни было субстрата – Книги Судеб, бумажного или электронного носителя и т. п.
… посылка данного аргумента не требует, чтобы кто-либо, даже Бог, что-то знал об этих предшествующих истинах или, если выразить это более образно, чтобы была кем-то написана или могла быть кем-то внимательно прочитана Книга Судьбы. Именно это отличает чистый аргумент фаталиста от смешанного теологического аргумента о предопределении (там же, 383–384).
Для фаталиста Райла неважно, был ли прогноз о будущем событии действительным актом некоего субъекта – или остался невоплощенной возможностью; важно, что любой прогноз в любой момент времени был истинным или ложным. Допустим, событие С, произошедшее в 1953 г., не было детерминировано каузально (не было необходимым в смысле простой необходимости Боэция). Если так, то прогноз об этом событии, сделанный Нострадамусом в 1560 г., было невозможно верифицировать до того, как это событие случилось. Тем не менее, это событие произошло (сейчас мы об этом знаем), следовательно, прогноз был истинным с самого начала. А если ни Нострадамус, ни кто-либо еще не делал этого прогноза? В этом случае мы можем рассматривать его как нереализованную возможность; и существенно здесь то, что его нереализованность не мешает ему быть истинным! Это несостоявшийся истинный прогноз.
В аргументации (лирического героя) Боэция теологическая онтология – представление о боге как носителе всеобъемлющего знания – играет существенную роль: именно всеобъемлющий характер знания, который может быть присущ только богу, делает возможным фатализм как тезис об абсолютной предопределенности всего. Однако эта онтология необходима (для фаталистических опасений) лишь постольку, поскольку мы рассматриваем истину как воплощенную в действительности – в знании человека или бога. Если же мы допускаем, как это делает фаталист Райла, что возможное (но не получившее воплощения в действительности) знание тоже имеет истинностное значение, то онтологическая посылка божественного всеведения оказывается излишней. Для постановки проблемы достаточно того, что о любом событии возможно истинное знание. Говоря коротко, в аргументации фаталиста Райла место божественного провидения занимает полная совокупность возможного истинного знания.
-
2) Отказ от теологической онтологии означает, в частности, отказ от идеи вечности, т. е., в данном контексте, от обязательства рассматривать истину в качестве вневременной. Это позволяет ему восстановить темпоральное измерение проблемы и, таким образом, устранить предложенное Боэцием решение. Вспомним, что в процитированной экспозиции аргумента фаталиста об истинности говорится во временных терминах: «в субботу было истинно…», «и тысячу лет назад было истинно…», «но если это было истинно заранее…». Ду-
- маю, эту темпорализированную истинность нужно понимать как истинность пропозиций, являющихся содержанием возможных локализованных во времени актов прогноза. Иначе говоря, фраза «в субботу было истинно, что p» означает: 1) истинно, что p; 2) эта истина могла быть содержанием какой-либо пропозициональной установки какого-либо субъекта в субботу.
В этих терминах рассуждение райловского фаталиста можно резюмировать так:
-
1) Каждому событию соответствует описывающая его пропозиция.
-
2) Любая пропозиция может быть содержанием какой-либо пропозициональной установки, в том числе содержанием прогноза, фантазии о будущем и т. п.
-
3) Если событие С произошло, то прогноз об этом событии был возможен – и был истинным – всегда, в любой момент прошлого.
-
4) Универсальность тезисов 1 – 3 позволяет сделать фаталистический вывод об эпистемической предопределенности всех событий.
Таким образом, отказ от теологической онтологии и восстановление темпорального аспекта истины позволило фаталисту Райла реактуализировать проблему и сделало необходимым поиск иных оснований для ее решения. В споре со своим концептуальным персонажем Райл использует новый ресурс: анализ семантической связи между пропозицией (как содержанием возможных или действительных пропозициональных установок) и соответствующим ей положением вещей. При этом его главное возражение фаталисту состоит в том, что именно временной аспект семантической связи между пропозицией и фактом ограничивает возможность прогностических предположений о будущем. В этом смысле стратегии Боэция и Райла противоположны. Боэций решает проблему, устраняя темпоральное измерение из структуры божественного знания и тем самым устраняя необходимую предпосылку фаталиста. Райл же, напротив, апеллирует к темпоральному характеру семантической связи, тем самым обращая предпосылку фаталиста против самого фаталиста.
Аргумент Райла состоит в том, что пропозиция о некотором индивиде или событии невозможна, если данного индивида или события (еще) не существует (даже если он появится в будущем). Скажем, о битве при Ватерлоо было невозможно сказать (предположить и т. п.) что-либо до того, как она произошла, – хотя было возможно нарисовать в воображении битву, похожую на битву при Ватерлоо до неотличимости. Речь об этом объекте – а не о вымышленном объекте, сколь бы он ни был похож на этот, – невозможна, пока этого объекта нет.
Предсказание какого-то события, в принципе, может быть сколь угодно конкретным. То, что фактически ни один предсказывающий не может знать или обоснованно полагать, что его предсказание истинно, неважно. Допустимо, что, будучи наделен живым воображением, он вполне мог бы придумать какую-то историю в будущем времени со всевозможными подробностями, и эта вымышленная история могла бы оказаться истинной. Но одно ему было бы недоступно по логическим, а не просто эпистемологическим причинам. Ему были бы недоступны сами будущие со- бытия для героев или героинь его истории, ибо пока остается проблематичным, будет ли разыграна битва при Ватерлоо в 1815 году, он не может полноценно использовать фразу «битва при Ватерлоо» или местоимение «эта» (Райл 2000, 393; перевод незначительно скорректирован по изданию: Ryle 2002).
Это рассуждение перекликается с рядом семантических концепций второй половины XX в., таких как:
– теория экзистенциальных пресуппозиций (Стросон 1982), согласно которой существование объекта необходимо для того, чтобы высказывание об этом объекте было истинным или ложным;
– каузальная теория референции (Donnellan 1970, Devitt 1974), согласно которой семантическая связь между сингулярным термином и объектом задается актом именования, который, конечно, предполагает существование объекта;
– индексикальная семантика общих терминов, согласно которой значение общего термина задается выбором одного из существующих объектов в качестве образца (Патнэм 1999).
Общий тезис перечисленных теорий, как и семантических рассуждений Райла в данном контексте, состоит в том, что семантическая связь языкового выражения и объекта не может быть учреждена «опережающим образом»: до начала действительного существования соответствующего объекта. Имя «Сократ» не могло обозначать Сократа до рождения последнего, даже если бы кто-то в своей фантазии выдумал человека, неотличимого от действительного Сократа, и называл бы этого вымышленного персонажа именем «Сократ». (Разумеется, ретроспективная семантическая связь возможна: имя «Сократ» обозначает Сократа и после смерти последнего.) Соответственно, пропозиция об объекте невозможна, пока этот объект не начал существовать. Пожалуй, наиболее лаконичное выражение эта идея получила в концепции структурированных пропозиций Д. Каплана (Kaplan 2003), согласно которой объект непосредственным образом входит в структуру сингулярной пропозиции.
Темпоральный характер семантической связи естественным образом имплицирует темпоральный характер истины: истинные или ложные пропозиции об объекте становятся возможными не прежде, чем объект начинает существовать; все возможные истины (как и все возможные заблуждения) об объекте возникают вместе с объектом. Таким образом, Райл – в отличие от Боэция – допускает темпоральный аспект истины, но трактует этот аспект так, что он не может использоваться в аргументации фаталистического толка.
Список литературы Боэций и Райл об эпистемическом фатализме
- Боэций (1990) «Утешение философией» и другие трактаты. Москва.
- Витгенштейн, Л. (1994). Философские работы. Часть I. Москва.
- Стросон, П. Ф. (1982) «О Референции», Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XIII. Логика и лингвистика (проблемы референции). Москва: 109-133.
- Райл, Г. (2000) Понятие сознания. Москва.
- Патнэм, Х. (1999) «Значение значения», Патнэм Х. Философия сознания. Москва: 164-235.
- Devitt, M. (1974) “Singular Terms,” The Journal of Philosophy 71.7, 183-05.
- Donnellan, K. S. (1970) “Proper Names and Identifying Descriptions,” Synthese 21, 335-358.
- Kaplan, D. (2003) “Dthat,” J. L. Garfield, M. Kiteley (eds). Meaning and truth: essential readings in modern semantics. St. Paul: 212-232.
- Ryle, G. (2002) Dilemmas. The Tarner Lectures 1953. Cambridge.