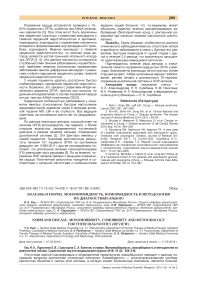Болезнь и норма. Мономорбидность, коморбидность и методология их диагностики
Автор: Кац Я.А., Пархонюк Е.В., Скрипцова С.А.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 2 т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
Отсутствие единой классификации и общепринятой терминологии коморбидности приводит к разному пониманию вопросов диагностики сочетанной патологии. Коморбидность — сложноорганизованная система. Целостным объектом и частью этой системы, в которую входят болезненные комплексы, является больной. Успешностью решения диагностических задач, особенно при наличии коморбидности, в конечном итоге определяются логичность и обоснованность выводов, а следовательно, эффективность диагностики в целом. Предложенный нами ранее интегративный метод, сохраняя системный подход и метод сравнения, предполагает использовать совокупность данных генетического, конституционального, иммунологического, антропологического и других видов обследования для получения наиболее полного представления не только о характере заболевания, но прежде всего о самом больном. В связи с изложенным в представленном обзоре обращается внимание не только на особенности составления «диагноза больного» при наличии у него коморбидности, но и на то, в какой последовательности должны быть рассмотрены и отражены в основном диагнозе патологические состояния при наличии нескольких активных процессов.
Болезнь, геномика, диагноз, интегративный метод, коморбидность, лечение, методология, мономорбидность, норма, превентивно-предиктивно-персонифицирующая медицина, протеомика, функциональная система организма
Короткий адрес: https://sciup.org/149135078
IDR: 149135078
Текст научной статьи Болезнь и норма. Мономорбидность, коморбидность и методология их диагностики
ology, diagnosis, treatment, preventive-predictive-personalized medicine.
1Основными состояниями жизнедеятельности человека признаны здоровье и болезнь. Для понимания сущности болезни необходимо определить сущность и содержание тесно связанных между собой категорий «норма» и «здоровье». Несмотря на исключительную важность иметь точное представление о каждом из указанных состояний, приходится констатировать неоднозначность их понимания теоретиками, практическими врачами и философами. Ни одно из ннх не имеет общепринятого определения. В частности, если признать, что важнейшими из них для характеристики состояния человеческого организма являются понятия нормы и патологии, то вызывает справедливое удивление, что в работах наших философов понятию нормы уделяется «совершенно недостаточное внимание», «философы, занимающиеся фундаментальными проблемами и определениями бытия, еще не знают такого понятия, не осмыслили его как философскую категорию» [1]. Между тем исключительная значимость представления о норме состоит в том, что оно является во многом производным для таких основных понятий, как «организм» и «развитие», «здоровье» и «болезнь», «гармония» и «симметрия».
Отсутствие единства в понимании и трактовке названных категорий касается не только врачей. Сложность и многогранность проблем, которые они отражают, затрагивают интересы специалистов самых разных профессий: от философов, математиков и биологов до музыкантов и архитекторов. Однако каждый из представителей названных профессий видит системные образования и совокупность входящих в них элементов как высшую форму совершенства строгой гармонии и симметрии, характеризующих норму. Соглашаясь с этим положением, видимо, можно попытаться получить еще один ориентир, который бы мог быть нами использован в практической деятельности для характеристики нормы через понятие совершенства. Тогда «не норма», как философская
категория, примененная для описания материи, каких-либо образований, структур и их функций, должна иметь определенную степень несовершенства . Следовательно, «степень несовершенства» может выступать в качестве определенного параметра и иметь меру измерения, что позволяет рассматривать несовершенство как пограничное состояние, которое в зависимости от тех или иных полученных измерений (показателей) может быть приближено в одних случаях к норме, в других — к патологии. Понятно, что степень несовершенства должна иметь какой-то доверительный интервал, являющийся единым показателем, который может быть применен для анализа, статистического обеспечения и разграничения различных категорий. В этом случае степень несовершенства или степень отклонения параметров, характеризующих структуру и функцию, должны анализироваться с позиции доверительного интервала, определяющего меру гармонии и симметрии как показателей совершенства нормы. Таким образом, совершенство или несовершенство , имеющие четкий доверительный интервал, дают возможность определить, при каких значениях несовершенство переходит в патологию; крайние отклонения от значений доверительного интервала при выявленной патологии будут характеризовать невозможность существования структур, т.е. их смерть. Следовательно, предлагаемый подход к измерениям даст возможность проследить всю цепочку развития: от совершенства к норме и от «несовершенной нормы» до патологии и смерти. Центральный вопрос таких измерений: «что» принять для сравнений и измерений совершенства? Таким «что» должны служить суммарные показатели гармонии и симметрии изучаемых структур и их функций, так как именно они являются внешними проявлениями совершенства и самого существования структур. Во многих случаях для характеристики последних можно применять числа ряда Фибоначчи, сравнение с параметрами, подчиняющимися законам золотого сечения, вурфовой пропорции и др., которые характеризуют в основном именно внешние проявления совершенства, законов гармонии и симметрии [2–4].
Если теперь попытаться с указанных позиций дать определение болезни, то наиболее приемлемым следует признать следующее: болезнь есть состояние, которое должно характеризоваться клинически по внешним и внутренним показателям как «несовершенство», т.е. должно быть отнесено к «не норме». Причем в этом случае степень выраженности «несовершенства и не нормы» определяется как болезнь именно потому, что существует невозможность полноценного функционирования организма во внешней среде, нарушаются качество жизни и социальная деятельность.
Описанное состояние болезни представляется результатом вполне определенных и в то же время общих закономерностей возникновения, развития и исхода заболеваний, т.е. сделана попытка связать философские и базисные представления теоретических дисциплин с клинической практикой. Другой подход к определению болезни связан с необходимостью рассмотрения заболевания с патофизиологических позиций, определяющих сущность болезни через призму патогенетических механизмов повреждений, защиты (саногенеза) и компенсаций. При этом очень важно помнить и понимать, что даже крайне незначительные изменения функций определяются обязательным изменением структуры, хотя и на невидимом молекулярном, субклеточном или клеточном уровне. Но и в этом случае изменение совершенства (даже в пределах доверительного интервала) должно рассматриваться как возможный доклинический сигнал прогрессирования и развития болезни. Именно этот уровень структурных изменений привлекает внимание исследователей превентивно-предиктив-но-персонифицирующего направления медицины, когда задействованы методы исследования и знания области геномики, протеомики, метаболомики и биоинформатики (ГПМБ) [5].
Сегодня в век молекулярной генетики началось развитие концепции геномной или превентивно-пре-диктивно-персонифицирующей медицины (ПППМ) [5, 6], обоснованной лауреатом Нобелевской премии Жаном Доссе, который рассматривает «рутинное использование генотипического анализа, обычно в форме ДНК-тестирования, с целью улучшения качества медицинской помощи» [7]. Достижения молекулярной или трансляционной медицины создают потенциальные возможности их использования и широкого внедрения в практику здравоохранения» [7, 8], что может быть расценено как начало осуществления мечты многих поколений врачей о действенных методах охраны «здоровья у здоровых», получения точных маркеров для проведения четко обоснованной профилактики заболеваний, о наличии высокочувствительных и специфичных доклинических методов диагностики и строго индивидуального целенаправленного лечения [9–12].
В то же время трудно ожидать очень быстрого создания «инновационных междисциплинарных команд», способных не только получать с помощью новейших естественнонаучных исследований необходимые данные об организме, но и правильно трактовать и использовать совершенно иные подходы и инструментарий для профилактического и лечебного воздействия на организм, причем чаще всего еще на «доклиническом несовершенстве». Кроме того, выход на этот уровень требует не только огромных финансовых и временных затрат, но и подготовленного штата врачей с несколько иной идеологией и миро- воззрением, так как это будет совершенно другая медицина [13, 14].
Впрочем, мы находимся сегодня лишь в начале пути, и поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы избежать разрыва между клиническими методами изучения больного и сугубо молекулярными или генетическими исследованиями. Это становится особенно важным при наличии у больного не одного, а нескольких заболеваний, что в настоящее время рассматривается как проявление так называемой коморбидности, частота встречаемости которой у больных нарастает из года в год. Напротив, пациентов с мономорбидностью в последние десятилетия становится все меньше. Более того, ретроспективный анализ публикуемых ранее данных о наличии монопатологии у больных, находящихся в стационарах общесоматического типа, вызывает в определенной степени удивление. Так, имеются сведения, что в 1960–1970-х гг. монопатология в стационарах фиксировалась в 13-32% случаев [15, 16]. Сегодня при целенаправленном обследовании монопатология может быть выявлена в очень небольшом проценте случаев, скорее всего только у детей, хотя исследования показывают, что коморбидность в настоящее время «затрагивает практически все медицинские специальности, в том числе и педиатрическую» [17–23]. В частности, педиатры свидетельствуют о большой частоте коморбидности в виде гастроэнтерологической и эндокринной патологии у детей с аффективными расстройствами [24]. К настоящему времени крупномасштабные эпидемиологические исследования, проведенные во многих странах с применением серьезных статистических расчетов, показали, что треть всех текущих заболеваний населения отвечает более чем одним диагностическим критериям [20, 21, 25–30]. Кроме того, подтверждено, насколько важно учитывать соболезненность двух и более независимых заболеваний [20, 21, 25, 31].
Согласно данным, взятым из реальной клинической практики, распространенность коморбидности составляет от 69% у больных молодого возраста (1844 лет) до 93% среди лиц средних лет (45-64 лет) и до 98% у пациентов старшей возрастной группы (старше 65 лет). С другой стороны, если среди всей когорты обследованных пациентов разных возрастов коморбидность выявлена в 22,6% случаев, то среди лиц старше 65 лет — в 77,3% [32, 33, 35]. По данным, основанным на материалах более трех тысяч патологоанатомических секций (n=3239) больных с соматической патологией, поступивших в многопрофильный стационар по поводу декомпенсации хронического заболевания (средний возраст 67,8±11,6 года), частота коморбидности составила 94,2% [20]. Несмотря на большую практическую значимость явления коморбидности, до настоящего времени нет единого унифицированного определения, которое характеризовало бы подобные ситуации. У термина «комор-бидность» имеется 7 синонимов: полиморбидность, мультиморбидность, мультифакториальные заболевания, полипатия, соболезненность, двойной диагноз, плюрипатология. Даются самые разнообразные определения и трактовки коморбидности:
«наличие дополнительной клинической картины, которая уже существует или может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и всегда отличается от него»;
«сосуществование двух и/или более синдромов (транссиндромальная коморбидность) или заболеваний (транснозологическая коморбидность)»;
«(лат. morbus — болезнь) — сочетание двух или нескольких самостоятельных заболеваний или синдромов, ни один из которых не является осложнением другого» [34].
В последнее время в официальные материалы внесено понятие «полипатии», которые также рассматриваются как синоним коморбидности. Полипатии признаются в случаях, когда основное заболевание представлено тремя и более заболеваниями, которые перечисляются под номерами-цифрами: 1, 2, 3 и т.д. Например:
«Полипатии:
Официально закреплено, что если имеются два или более заболеваний, подходящих под определение «основного» (бикаузальный вариант), то при оформлении диагноза необходимо определять его как «комбинированное основное заболевание». При этом следует указать: конкурирующие или сочетанные заболевания; либо обозначить: основное заболевание и после него — фоновое, перечислив каждое с красной строки под номерами-цифрами: 1. …; 2. …; и т.д. [35].
Существует мнение, согласно которому «комор-бидность» и «мультиморбидность» суть разные понятия. Если коморбидность рассматривается как сочетание нескольких заболеваний у одного больного, связанных доказанным единым патогенетическим механизмом, то под мультиморбидностью понимается наличие множественных заболеваний, не связанных между собой доказанными на настоящий момент патогенетическими механизмами [36]. Другие утверждают, что мультиморбидность есть сочетание множества хронических или острых болезней и медицинских состояний у одного человека, и не акцентируют внимание на единство или разность их патогенеза [37]. Уточнение термину попытались дать H. C. Kraemer [32] и M. van den Akker [38], считая, что коморбидность есть «сочетание у одного больного двух и/или более хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у одного пациента вне зависимости от активности каждого из них». Однако думается, что это лишь еще более запутало ситуацию, так как отсутствие активного процесса составляет суть сопутствующего заболевания, что делает излишним сам термин коморбидности.
Отсутствие единого понимания коморбидности и единого комплексного методологически выверенного научного подхода к оценке коморбидности служит серьезным препятствием к ее изучению, что влечет за собой пробелы в клинической практике. Именно с этим связано, по-видимому, отсутствие коморбид-ности и в Международной классификации болезней Х пересмотра. Отсюда трудно считать сопоставимыми и принять для использования в клинической практике результаты изучения состояний, рассматриваемых как коморбидные. Однако при этом исследуются сочетания совершенно разнотипных патологических процессов: то заболеваний и их осложнений, то комбинированных заболеваний, то совокупность синдромов или так называемую «синдромальную ко-морбидность» и т.д. Между тем за различными взглядами на проблему и словесной эквилибристикой теряется смысл выделения самой коморбидности как важного явления в клинической практике. Действительно, чрезвычайно значимым представляется изучение особенностей течения и клиники основного заболевания при одновременном наличии одного или нескольких дополнительно существующих процессов. Понятно, что такие сочетания не могут не отразиться как на методах диагностики, так и на особенностях терапии, реабилитации и прогноза. В настоящей статье мы будем придерживаться определения, согласно которому коморбидность рассматривается как сочетание у одного больного не менее двух заболеваний с наличием разнообразных форм взаимовлияний.
Традиционно в отечественной медицине существует положение, которое призывает рассматривать больного с позиции единого целого. М. Я. Мудров, раскрывая тайны своего успеха врачевания, обращал внимание студентов на то, что «не должно лечить болезнь по одному только ее имени… должно лечить самого больного, его состав, его органы, его силы. Вот тайна моего лечения, которую приношу вам в дар» [39]. Аналогичный подход был свойствен и другим выдающимся корифеям российской медицины. Г. А. Захарьин, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин неоднократно высказывали мысль о необходимости «лечить не болезнь, а больного», что в настоящее время приобрело особый смысл, когда «диагноз больного» стал настолько большим, что его запись перестала умещаться в отведенных строках истории болезни. В этих условиях в 1970 г. американский врач А. R. Feinstein [22] при описании более тяжелого течения и прогноза у больных ОРЛ при наличии у них одновременно протекающих нескольких заболеваний впервые употребил термин «коморбидность». Но нечеткость определения термина, видимо, вызвала появление синонимов и тем самым еще более затруднила решение проблемы. Сегодня существует несколько направлений или путей изучения комор-бидности: транснозологический, транссиндромаль-ный, хронологический и с позиции наднозологических форм.
На наш взгляд, стоит остановиться на коморбид-ности с позиции философских категорий целостности, целого и частей. Если рассматривать организм больного как сложноорганизованную систему, то, с одной стороны, она выступает как единое целое, а с другой — может быть представлена как часть, так как в условиях коморбидности имеется условная сумма: «организм + сумма заболеваний». В свою очередь, «сумма заболеваний» выступает как целое, имеет свои составные части: два или более заболеваний, каждое из которых являет собой единое целое. Заболевание как отдельное целое не может быть рассмотрено в отрыве от целостного организма и других активных процессов, имеющихся в настоящее время у пациента.
Следовательно, при коморбидности особенно четко проявляется философское положение о том, «что и целое, и часть целого не есть всегда только целое и часть», выступая при коморбидности то как целое, а то как часть. Другими словами, коморбид-ность представляется такой сложноорганизованной системой, при которой больной является и целостным объектом, и частью этой системы, в которую входят болезненные комплексы. Организм здорового в случае развития заболеваний, оставаясь сущностью целого (внутреннее соответствие между частями), приобретает определенные специфические связи (при одном или нескольких заболеваниях), образуя иное целое. Это объясняется тем, что связь частей обусловливает приобретение особых специфических свойств, которых нет «ни у каждой из частей в отдельности, ни у их суммы, которые появляются в результате взаимной связи и согласованности частей». Поэтому очень важно понять причины, обусловливающие исключительную согласованность между частями, воздействие каждой из частей в отдельности и их суммы как целого, что вызывает трудность в определении целостности объекта. Кроме того, особую значимость приобретает положение о том, что специфика сверхсложных систем, которая имеется особенно при коморбидности, в значительной степени может быть обусловлена не только внутренними связями (функциональными системами организма), но и результатом взаимодействия с другими системами (внешней средой). Отсюда возможна и передача в иерархическом ряду живых систем: от молекулярных, клеточных, органных, организменных до видовых и межвидовых.
Таким образом, в случае коморбидности имеется органически целостный больной организм (как целостное образование), который отличается от здорового наличием заболеваний, каждое из которых выступает как часть патологического процесса, изменяющего организм при взаимодействии целого с одним или несколькими заболеваниями, которые формируют коморбидность.
С практической точки зрения при наличии ко-морбидности наиболее важным представляется необходимость сконцентрировать основное внимание на методологии и особенностях клинического мышления, которое должно присутствовать на разных этапах диагностического процесса. Другими словами, при коморбидности и составлении «диагноза больного» необходимо придерживаться достаточно четкой «дисциплины мышления», которая включает определенную последовательность мыслительных операций, направленных на диагностику основного (основных), сопутствующих, фоновых заболеваний и осложнений. При этом наиболее значимо — выделить основное заболевание, а при наличии нескольких активных процессов — знать, в какой последовательности они должны быть рассмотрены и отражены в основном диагнозе. Критерием определения места для заболевания в основном диагнозе должна являться оценка степени активности процесса и наибольшей угрожаемости развития осложнений и рисков жизни пациента, требующих незамедлительного лечения. Понятно, насколько важным является знание и умение применить на практике методологию диагностики в этих условиях.
Целесообразно, на наш взгляд, упомянуть о значительном вкладе в развитие методологии диагностики, который внесла саратовская школа терапевтов. Так, профессор П. Н. Николаев еще в 1938 г. указывал на исключительную значимость понимания структурно-функциональных взаимоотношений при изучении патологического процесса, призывая к содружеству морфолога и клинициста: «…функцио-нальных изменений, не связанных с материальной основой, в природе не существует. Деятельность морфолога и деятельность клинициста дополняют друг друга, и обе направлены к обнаружению и изучению единого патологического процесса» [40]. Нельзя не вспомнить крупнейшего терапевта-философа Петра Ивановича Шамарина, длительное время возглавлявшего кафедру пропедевтики внутренних болезней. Его работы [41, 42] по методологии диагностики, гносеологическому анализу диагностических ошибок, высказывания о клиническом мыш- лении были впоследствии использованы его учениками и соратниками при дальнейших разработках и подходах к диагностическому процессу. В частности, можно сослаться на его мысль о необходимости более серьезного отношения к законам формальной логики, особенно при использовании первого закона логики, каковым является закон тождества. Особое значение в диагностическом процессе он придавал методу сравнения неизвестного с известным и оценке степени их совпадения. П. И. Шамарин [42] писал, что «врач сравнивает клиническую картину болезни данного больного… с клиникой абстрактной болезни, которая известна врачу по учебникам и руководствам». Это положение затем было взято за основу его последователями. В частности, профессор Н. А. Ардаматский [43] предложил группу признаков, характеризующих повреждение органа (синдром), выявленных у больного, сравнивать с аналогичным абстрактным синдромом (эталоном) для диагностики на уровне органа (органная диагностика) или абстрактной болезнью (нозологическая диагностика). Далее профессор Н. А. Ардаматский пришел к выводу о необходимости применить метод сравнения известного с неизвестным для использования в качестве метода критериальной диагностики. Такими критериями названы: этиология болезни, развитие заболевания, органопатотопография и эффективность лечения. При достаточном (более 70%) совпадении данных, выявленных у больного по каждому их названных критериев, с эталоном заболевания, описанного в литературе, делается заключение об их идентичности, что и служит обоснованием диагноза [43]. Важно к тому же обращать самое серьезное внимание не только на совпадающие, но и на несовпадающие элементы такого сравнения. События, признаки и/или синдромы, не совпадающие с эталоном, часто как раз и являются той «изюминкой», которая характеризует особенность проявлений или заболевания в целом у конкретного больного. Это может касаться особенностей этиологии, этапов развития заболевания, органопатотопографии, фаз, периодов, реакции на препарат и др. Выявленные особенности определяют необходимость внесения изменений не только в диагностику, но и в план лечения. Отсутствие внимания к индивидуальным особенностям может привести к серьезным ошибкам как при распознавании заболевания, так и при лечении, которое может оказаться неэффективным. Кроме того, нельзя забывать, что описания заболеваний, которые даются в учебниках и руководствах как «классические», во многом являются «усредненным» клиническим образом, который в силу разных обстоятельств, и прежде всего эволюции болезни, может изменяться и иметь иную клиническую картину. Естественно, что в этом случае должны применяться другие критерии диагностики, а следовательно, и другие подходы к лечению [44].
Детальный анализ возможных изменений всех «участников процесса» и параметров заболевания, связанных с эволюцией процесса, представлен нами на примере ревматизма в нескольких работах [44].
В продолжение развития методологии диагностики нами предложен интегративный метод [44], который, сохраняя системный подход и метод сравнения, предполагает использовать совокупность данных генетического, конституционального, иммунологического, антропологического и других видов обследования для получения наиболее полного представления не только о характере заболевания, но прежде всего о самом больном. Особенности развития, течения болезней, характер индивидуальных реакций на этиологические и патогенные факторы определяются исходным состоянием организма и внешних факторов риска, условиями взаимодействия и взаимозависимости социального и биологического. Отсюда необходимость интегративного подхода с получением информации самого широкого плана, касающейся индивидуума, его «внутренней» основы. При этом ведущим положением является идея Парацельса об огромном значении характеристики индивидуальных особенностей организма, о том, «что важнее знать, кем является больной, чем то, какой болезнью он болеет». При всей неоднозначности толкования данной формулировки ясно одно, что без понимания организма больного нельзя по-настоящему понять болезнь. Сообразно этому положению интегратизм представляется нами не только как простое объединение данных об индивидууме и его болезни, но включает в себя и «взаимопроникающую» диагностическую технологию. Она помогает осуществить более глубокий анализ с помощью учета данных как о взаимосвязях и взаимозависимости, так и о взаимопроникновении и «переплетениях» факторов, участвующих в процессе, формировании болезни и изменяющие ее, что в совокупности и определяет возможность получить более полный комплекс знаний об организме и его болезни, что особенно важно в условиях коморбид-ности [45].
На первом этапе, исходя из методологических принципов, применяемых в теории познания при изучении процессов развития, предполагается в «структуре процесса познания развивающихся объектов» (больного) выяснить, что представляет собой объект исследования [44, 46]. Эта «первая ступень» познания (в нашей методологии: 1-я фаза интегратизма) позволяет исследователю получить сумму знаний фундаментального (генетического, конституционального, иммунологического и др.) характера об изучаемом объекте за весь период, предшествующий заболеванию, — предболезнь. Полученные сведения должны помочь понять истоки болезни, где и когда в организме была подготовлена «почва» для восприятия повреждающего фактора, сформировалось «тонкое» место. Важно понять, что собой представлял организм до развития заболевания, от рождения и до момента внедрения основного этиологического фактора, что определило возможность развития именно данного заболевания (заболеваний).
«Вторая ступень» познания изменяющегося объекта — получение и формирование знаний об изменениях его структуры, качественных, количественных и функциональных характеристик, с акцентом на возможные конвергенционные (сближающиеся) и «взаимопроникающие» взаимодействия.
Наиболее сложным вариантом взаимосвязей и взаимозависимости явлений, в частности отдельных признаков, функциональных систем и заболеваний, является их взаимопроникновение или пенетрация, в результате чего формируются совершенно новые группы функционирования, новые системы или комбинированные заболевания. Проблему пенетрации с этих позиций, насколько нам известно, вообще не ставили и не изучали, тогда как она имеет, безусловно, исключительное значение. Среди множества эффектов таких взаимопроникновений следует обратить внимание на возможность развития резонансного эффекта, в результате чего происходит либо создание чего-то нового, либо его уничтожение. Нас особенно интересуют клинические варианты вза-имопенетраций ФСО и заболеваний. В последнем случае это касается коморбидных состояний, при которых вопросы взаимопроникновения приобретают особое значение, так как в результате можно ожидать доброкачественный или злокачественный эффект. «Взаимная склонность, притяжение» двух болезненных состояний рассматривается в работах немецкого педиатра М. Пфаундлера, который называл такое явление синтропией, тогда как при наличии «взаимных отталкиваний» — дистропией. Известно, что существуют сочетания болезней, при которых можно ожидать благоприятный исход за счет подавления одного патологического процесса другим. Это явление так называемого одно- или двустороннего антагонизма. Однако значительно чаще в клинике наблюдается отягощение течения заболевания при присоединении еще одного патологического процесса. Оригинальный способ изучения коморбидности на основе закона «О рекомбинационных преобразованиях в живых системах, ведущих к качественным изменениям этих систем», открытого академиком Д. С. Саркисовым, предложил Л. Б. Лазебник с соавт. Предложение основывается на том, что согласно этому закону «расположение составных частей какой-либо системы в новом порядке приводит к качественному изменению данной системы», что может быть использовано при изучении коморбидности [46].
Следуя же интегративному методу диагностики, необходимо (3-я фаза интегратизма) провести объединение и анализ данных, полученных на первой и второй ступенях познания. В результате такого суммарного анализа информации с учетом явлений конвергенций и пенетраций можно получить более точное представление об организме больного в целом, а не только более или менее полную картину болезни. Кроме того, появляется возможность понять, как и за счет каких механизмов болезнь изменяет организм больного, а наряду с этим выявить причины развития заболевания и особенности его течения. Более того, интегративный подход позволяет понять, какое место может занять изучаемый объект (больной) в рамках абстрактной болезни, добавляют ли знания (и что конкретно), полученные при изучении больного, к эталону и пониманию болезни как таковой. В интегратизме видится осуществление взаимосвязей основных методологических принципов познания:
-
— причинности или детерминизма (поиск этиологии);
-
— принципа развития (цикличность, фазность и линейность);
-
— принципа историзма («…как известное явление в истории возникло, какие главные этапы это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»). Принцип «историзма» (an. vitae, an. morbi) ориентирует врача на поиск причины, происхождения заболевания в историческом, генетическом аспектах, выявляя связь изменений и развития заболевания в имеющемся врожденном или приобретенном несовершенстве средств защиты или компенсации повреждений или морфологических (диспластических) расстройств (суть выявления, изучения и значения предболезни);
-
— принципа единства теории и практики.
Теоретические знания и представления о сущности признаков или явлений (физиологии, патофизиологии, генетики, морфологии) предполагают применение клинического мышления, которое мы рассматриваем как непременный атрибут, предше- ствующий любому действию (практике) врача при решении любых медицинских задач (проблем).
Значимость интегративного подхода становится особенно очевидной в ситуациях, когда имеется не одно, а несколько заболеваний в фазе «вспышки» и при оформлении диагноза надо решать вопрос о порядке их написания в графе «основное заболевание». Врач должен «понять больного»: какие у него есть заболевания, что считать основным заболеванием, какое заболевание считать сопутствующим, фоновым и какие имеются осложнения основного процесса. В последние годы разработаны новые правила формулировки и сопоставления клинического и патологоанатомического диагнозов. Они основаны на стандартах, утвержденных в 2006 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российским обществом патологоанатомов. Введены понятия «конкурирующее, сочетанное, фоновое заболевания и полипатии» [35].
Введенные градации диагнозов во многом уточняют понятия о патологических процессах, имеющихся у больного. Однако практически важным является умение при наличии нескольких заболеваний сориентироваться в формах патологии, с тем чтобы не запутаться в определениях и суметь выделить основное заболевание, требующее активного лечения в конкретный момент. При этом важно не только определить основное заболевание, но и оценить этап его развития и/или фазу, вариант и особенности течения, характер поражения органов и ФСО, данные о проведении и эффективности предыдущей терапии, переносимости лекарств и т.д. Успешность решения каждой из диагностических задач, особенно при наличии коморбидности, зависит от степени овладения врачом теорией и практикой диагностики. Знание методологии и освоение методик врачебной работы, степень «зрелости» клинического мышления — все это определяет логичность и обоснованность выводов, а следовательно, эффективность диагностики в целом.
Авторский вклад: написание статьи — Я. А. Кац, Е. В. Пархонюк, С. А. Скрипцова; утверждение статьи — Я. А. Кац.
Список литературы Болезнь и норма. Мономорбидность, коморбидность и методология их диагностики
- Балашов Л.Е. Жизнь, смерть, бессмертие человека. М., 2005. http://hpsy.ru/public/x2195. htm
- Аракелян Г. Математика и история золотого сечения. М.: Логос, 2014; 404 с.
- Шмигевский HB. Формула совершенства. Страна знаний 2010; (4): 2-7
- Марио Ливио. cp -Число Бога. Золотое сечение -формула мироздания. Litres, 2015; 481 с.
- Auffray С, Charron D, Hood L. Predictive, preventive, personalized and participatory medicine: back and the future. Gen-omMed2010;26;2(8):57
- Концепция «4П-медицины» как новый вектор развития здравоохранения/Приморская медицинская ассоциация; Научно-практическое общество врачей ПМА 07.12.2016 11:53. https://primma.ru/index.php/nb/957-l4-r-
- Beaudet A. Making genomic medicine a reality. Am J Hum Genet 1999; (64): 1-13
- Баранова B.C. Генетический паспорт -основа индивидуальной и предиктивной медицины. СПб.: Изд-во Н-Л, 2009; 528 с.
- Hood L, Heath JR, Phelps ME, et al. Systems Biology and New Technologies Enable Predictive and Preventative Medicine. Science 2004; 306: 640-643
- Weston AD, Hood L. Network Systems Biology for Drug Discovery. J Proteome Res 2004; (3): 179-196
- Auffray C, Chaen Z, Hood L. Systems medicine: the future of medical genomicsand healthcare. Genome Med 2009; (1): 2
- Сучков С. В., Роуз Н., Ноткинс А. и др. Введение в предиктивно-превентивную медицину: опыт прошлого и реалии дня завтрашнего. Вестник РАМН 2013; (1): 58-64
- Каминский И. П., Огородова Л.М., Патрушев М. В. и др. Медицина будущего: возможности для прорыва сквозь призму технологического прогноза. Форсайт 2013; 7(1): 14-27
- Бодрова Т., Голубничая О., Роуз Н. и др. Введение в предиктивно-превентивную медицину: опыт прошлого и реальности дня завтрашнего. В кн.: Наследственные болезни обмена веществ с поражением нервной системы: сборник тезисов Российского конгресса с международным участием. СПб.: Человек и его здоровье, 2012; с. 36-37
- Gross J. Parallelpatologist kui differential diagnotilisest problemist Sisenaiguste klinikus. Noukogude Eesti Tervishoid 1963; 5: 18-20
- Зарецкий M.M. Врачебная ошибка избежна или нет? Therapia 2009; 33 (1): 63-66
- Богмат Л.Ф., Шевченко H.C., Демьяненко M.B. Коморбидность при ревматических заболеваниях у подростков: обзор литературы и собственные наблюдения. Современная педиатрия 2015; 2 (66): 56-61
- Белоусов Ю.В. Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы у детей. Здоровье ребенка 2012; 1 (36): 134-138
- Белялов Ф. И. Лечение болезней в условиях коморбидности. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 544 с.
- Верткин А.Л., Зайратьянц О. В., Вовк Е.И. Окончательный диагноз. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; 576 с.
- Коломоец М.Ю., Вашеняк О.О. Коморбидность и полиморбидность в терапевтической практике. Укр. мед. часопис2012; (5): 140-143
- Feinstein AR. Pretherapeutic classification of comorbidity in chronic disease. Journal Chronic Disease 1970; 7 (23): 455-468
- Tong B, Stevenson О Comorbidity of cardiovascular disease, diabetes and chronic kidney disease in Australian. Institute of Health and Welfare Canberra, 2007; 69 p.
- Антропов Ю.Ф., Моллаева H.P Коморбидность гастроэнтерологической и эндокринной патологии у детей с аффективными расстройствами. В сб.: Материалы XIV Конгресса детских гастроэнтерологов России, 2007; с. 127-129
- Верткин АЛ, Скотников AC. Роль хронического аллергического воспаления в патогенезе бронхиальной астмы и его рациональная фармакотерапия у пациентов с полипатией. Лечащий врач 2009; (4): 61-67
- РаспутЫа Л. В. Коморбщнють неспециф1чних захворювань оргажв дихання та сердцевосудинноТ системи в практиц лкаря. Укр. пульмонолопчний журнал 2011; (4): 25-27
- Калев О.Ф., Калева Н.Г. Полипатии в кардиологии. В сб.: Материалы Всерос. науч.-практ конф., посвящ. 75-летию заслуженного деятеля науки РФ, проф. О.Ф. Калева/под ред. О.Ф. Калева. Челябинск, 2013; с. 14-19)
- Holzer ВМ, Siebenhuener К, Ворр М, et al. Evidence-based design recommendations for prevalence studies on multimorbidity: improving comparability of estimates. Popul Health Metr 2017; 15(1): 9.
- DOI: 10.1186/s12963-017-0126-4
- Caughey GE, Vitry Al, Gilbert AL, et al. Prevalence of comorbidity of chronic diseases in Australia. ВМС Public Health 2008; (8): 221
- Сумин A. H., Корок E.B., Щеглова А. В. и др. Коморбидность у больных ишемической болезнью сердца: тендерные особенности. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2017; 13 (5): 622-629.
- DOI: 10.20996/1819-6446-2017-13-5-622-629
- Акимова H.C., Персашвили Д. Г., Мартынович ТВ. и др. Когнитивные нарушения и состояние серого вещества головного мозга при ХСН на фоне ИБО Сердечная недостаточность 2011; 12 (5): 282-285
- Kraemer Н.С. Statistical issues in assessing comorbidity. Stat Med 1995; (14): 721-723
- RВикипедия.2011. http://ru.wikipedia.org/wiki/KoMop6nflHOCTb
- Зайратьянц О. В., Кактурский Л. В. Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов: справочник. М.: 000 «Медицинское информационное агентство», 2008; 424 с.
- Лазебник Л.Б. Старение и полиморбидность. Консилиум Медикум 2005; 12: 53-57
- Schofer I, von Leitner ЕС, Schon G, et al. Multimorbidity patterns in the elderly: a new approach of disease clustering identifies complex interrelations between chronic conditions. Public Library of Science (PLoS) One 2010 Dec 29; 5(12): e15941
- Van den Akker M, Buntinx F, Roos S, et al.Comorbidity or multimorbidity: what's in a name? A review of the literature. Eur J Gen Pract1996; 2 (2): 65-70
- Мудров М.Я. Избранные произведения. M.: Изд-во АМН СССР, 1949; 296 с.
- Николаев П. H. Брайтова болезнь в современном понимании. Киев: Госмедиздат УССР, 1938; 147 с.
- Шамарин П. И. Некоторые вопросы методологии диагноза: О гносеологическом анализе диагностических ошибок. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1969; 71 с.
- Шамарин П. И. Размышление клинициста о профессии врача. Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1974; 253 с.
- Ардаматский H.A. Введение в общую терапию. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991; 301 с.
- Кац Я.А. Диагностика: основы теории и практики. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012; 357 с.
- Кац Я.А., Пархонюк E.B., Скрипцова С. А. Склеротическая болезнь, интегративная диагностика и пути решения проблем хронизации и лечения болезней. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (3): 268-274
- Лазебник Л. Б., Верткин А.Л., Конев Ю.В. и др. Старение: профессиональный врачебный подход. М.: Эксмо, 2014; 320 с.