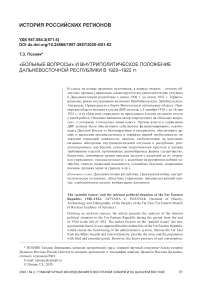"Больные вопросы" и внутриполитическое положение Дальневосточной Республики в 1920-1922 гг
Автор: Позняк Татьяна Зиновьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе архивных источников, в первую очередь - отчетов областных органов управления, анализируется внутриполитическая ситуация в Дальневосточной республике с конца 1920 г. до осени 1922 г. Территориальные рамки исследования включают Прибайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Приамурскую и Бурят-Монгольскую автономные области. Приморская область входила в состав ДВР полгода, с 5 декабря 1920 г. по 26 мая 1921 г., и ее областное управление не представило в центр ни одного отчета о своей работе. Основное внимание автор сосредоточил на «больных вопросах», с которыми столкнулась новая власть. Органы власти и управления ДВР должны были обеспечивать собственное функционирование, освобождать Дальний Восток от белогвардейцев и интервентов, обеспечивать армию и население продовольствием и товарами первой необходимости, но давление подводной повинности, налогов, хлебозаготовок на население вызывало обострение внутриполитической ситуации в республике: рост оппозиционных настроений, усиление сопротивления крестьян и казаков требованиям властей, принимавшее разнообразные формы (дезертирство, бандитизм, затягивание сроков выплаты налогов с надеждой на их отмену или уменьшение, «письма во власть» с жалобами на разоренное войной хозяйство, тяжесть подводной повинности, стихийные бедствия, сокращение посевов, продажа зерна за границу и пр.).
Дальневосточная республика, гражданская война, внутриполитическое положение, областные управления, продовольственный кризис, хлебозаготовки, налоги, мобилизация, бандитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175965
IDR: 170175965 | УДК: 947.084.3(571.6) | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/51-62
Текст научной статьи "Больные вопросы" и внутриполитическое положение Дальневосточной Республики в 1920-1922 гг
Интерес исследователей к истории Дальневосточной республики (ДВР) не ослабевает на протяжении длительного времени. В советской историографии основными изучаемыми проблемами были политическая борьба и роль РКП(б) в ходе создания буферного государства, его экономические и политические успехи [1; 9; 14]. В 1990-е гг. на волне «парада суверенитетов» интерес к ДВР резко возрос: появились работы, посвященные особенностям правовой системы, структуре центральных органов управления, силовым ведомствам, началась дискуссия о характере буферного государства, были опубликованы сборники документов [4; 6; 8; 17; 19; 20]. В новом тысячелетии исследователи вновь обратились к анализу разногласий в процессе создания буферного государства, а также к малоизученным темам: внешней политике, деятельности государственной политической охраны и милиции; появились обобщающие монографии [2; 3; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 16; 18; 21]. Хотя достигнут значимый прогресс в изучении истории ДВР, малоизученными остаются деятельность областных управлений по решению проблем строительства нового государства, экономическая и политическая ситуация в каждой области, повседневная жизнь населения и др.
Цель статьи – проанализировать проблемы, которые вынуждены были решать органы власти, и то, как они отражались на внутриполитической ситуации в ДВР. Статья является продолжением исследования о деятельности местных органов управления республики [15, с. 63–79]. Источниками исследования послужили областные отчеты, доклады представителей центра, посещавших разные регионы республики, которые позволяют увидеть, как происходила реализация законов и постановлений правительства на местах, с какими «больными вопросами» сталкивались местные органы власти в процессе строительства нового государства.
Создание ДВР было провозглашено на съезде трудящихся Прибайкалья, проходившем с 28 марта по 8 апреля 1920 г. в г. Верхнеудинск (ныне г. Улан-Уде). До ноября 1920 г. республика существовала в составе трех западных уездов Забайкальской области под управлением Верхнеудинского правительства [11, с. 375–376, 450]. Процесс образования ДВР был растянут во времени: большая часть заявленных в декларации 6 апреля 1920 г. территорий вошла в состав ДВР только в ноябре-декабре 1920 г., но даже после этого речь шла скорее о символическом, чем о реальном обладании и управлении территорией, процесс установления власти центра над регионами продлился до осени 1922 г. [15, с. 65–73, 76–77].
Первейшей задачей, стоявшей перед правительством ДВР, была организация органов власти и управления в центре и на местах. Длительный процесс формирования центральных органов власти получил достаточное освещение в исторической литературе [11, c. 399–420; 17, с. 78–79, 120–122; 18, c. 88–93]. Унификация органов управления на местах началась в 1920 г. и продолжилась в 1921 г.: представительными органами на уровнях от области до сельской единицы первоначально стали собрания уполномоченных, а исполнительными – народно-революционные комитеты (нарревкомы). После принятия Конституции ДВР власти приступили к организации и проведению выборов в собрания уполномоченных и преобразованию народно-революционных комитетов в управления. Выборы в областные собрания прошли летом-осенью 1921 г., на них были избраны и областные управления. Организация выборов уездных, городских и волостных собраний уполномоченных и избрание соответствующих органов исполнительной власти началась осенью 1921 г., но шла с большим трудом и растянулась и на 1922 г. [15, с. 65–77; 17, с. 80–88, 121–122]. Основными трудностями при организации органов управления в республике были отсутствие финансов и нехватка кадров. Их продуктивному функционированию мешали перманентные реформы всех министерств, многократные изменения законов и инструкций, отсутствие четкого разграничения прав и обязанностей центральных, региональных и отраслевых органов управления, систематическая недодача продовольственного пайка рабочим и служащим, отсутствие связи регионов с центром, «сепаратизм» министерств и силовых ведомств [15, с. 74–77].
Состояние экономики всех областей ДВР в 1921–1922 гг. было тяжелым: большинство промышленных предприятий либо бездействовали, либо работали не на полную мощность. Наиболее крупные и, как говорилось в отчетах с мест, «имевшие общегосударственное значение» национализированные заводы и фабрики были изъяты Министерством промышленности из подчинения областных управлений, доходы от них концентрировались в центре, в ведении областных властей оставили предприятия либо не работавшие, либо требовавшие больших капиталовложений. Кооперация испытывала недостаток оборотных средств для ведения торговли и работы своих фабрик и мастерских. Несмотря на введение золотого рубля, относительной свободы предпринимательства, организацию сбыта сырья и пушнины за границу, сдачу золотых приисков в аренду предпринимателям и акционерным обществам, экономическое положение ДВР и в 1922 г. оставалось тяжелым: росла безработица, прогрессировала инфляция, из-за неурожая и недосева не была решена продовольственная проблема (Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, далее – РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4–5; Д. 114. Л. 18–18об.; Д. 161. Л. 111–118; Д. 162. Л. 173–173об.; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 96об., 104об.–105; Д. 16. Л. 96–113) [10, с. 450–462].
Тяжелейшее состояние экономики осложняло решение задач, стоявших перед новой властью. Основная цель создания буферного государства – освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев и недопущение войны с Японией – требовала мобилизации населения в армию, снабжения населения и армии продовольствием, обеспечения функционирования аппарата и правопорядка, сбора налогов и пр.
Одной из острых проблем местных органов власти Прибайкальской и Забайкальской об- ластей в 1921 г. была «обремененность» крестьянского населения «непосильной подводной повинностью ввиду наличия советских войск и срочных военных перевозок» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–8, 27, 57–58). Заведующий административным отделом Забайкальского областного управления Донин докладывал областному собранию уполномоченных 8 июля 1921 г.: «Самым больным вопросом, после организации народно-революционной власти на местах, явился вопрос о порядке отбывания подводной повинности» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 22). При отсутствии у центральных и областных органов управления средств для оплаты государственных перевозок военных грузов, поездок в командировки военных и гражданских служащих пришлось подводную повинность возложить на население «натурой» без какой-либо компенсации. Кроме перевозки почты и лиц, едущих по делам службы, населению приходилось выставлять подводы на комендантские пункты, учрежденные военными властями, для перевозки воинских чинов и грузов. Выставление подвод на комендантские пункты от 10 до 30 ежедневно производилось по требованию военных властей без ведома гражданской власти и МВД, этими подводами распоряжались коменданты, приказы которых никем не контролировались. Такой способ отбывания подводной повинности, а также «чрезмерный разгон лошадей при существовавшей бескормице очень тяжело отозвался на крестьянском хозяйстве и с мест постоянно поступали жалобы и просьбы об урегулировании подводного дела и облегчения населения повинностью…» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 22–22об.).
Забайкальские областные власти с декабря 1920 г. неоднократно обращались в МВД, в Главный штаб НРА с просьбой уменьшить нагрузку на население. В апреле 1921 г. под угрозой оказалась посевная кампания. 27 апреля было созвано совещание из представителей области, Главного штаба и Народно-революционного комитета бурят-монгол Восточной Сибири. Оно разработало меры, ужесточавшие условия предоставления подвод, с целью сократить их до минимума; было решено просить «бурнарревком о наряде подвод от бурятского населения». Военное ведомство и МВД согласились с предложениями, а бурнарревком отказался взять на себя часть нагрузки, сославшись на «разоренность, причиненную гражданской войной» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 22–23об.; Д. 161. Л. 127).
Только в середине 1922 г. областные власти отметили улучшения в этой сфере. Прибайкальское областное управление в отчете за июль 1922 г. писало: «…с изданием Закона о подводной повинности, этот больной вопрос в настоящее время изживается: с 1-го августа введена платная система поставки подвод населением (в обыкновенное время 4 коп., а в распутицу 6 коп. с версты и лошади» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 127–127об.). С упомянутым законом многое остается неясным. Закон о подводной повинности был принят 4 февраля 1921 г. (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 22). Почему же он начал применяться только летом 1922 г.? Именно тогда областные власти приняли постановления на основании закона и инструкций МВД, весь же 1921 г. ссылались на отсутствие законов и финансов для платы за выставление подвод. Согласно закону, подводная повинность налагалась и на бурятское население, но оно начало исполнять ее только в 1922 г., отчеты же областей за 1921 г. пронизаны недовольством несправедливым наложением повинности только на русское население (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 22–23об.; Д. 163. Л. 2–2об.).
Другим «больным вопросом» были «неправильные реквизиции» и самоуправство властей. В 1921 г. из уездов и волостей регулярно поступали жалобы на незаконные распоряжения военных по реквизициям у населения продовольствия и фуража без уплаты денег, а также на вмешательство в дела гражданского управления отдельных лиц командного состава. Несмотря на приказы МВД и Главкома НРА реквизиции продолжались и в 1922 г., главной причиной назывались отсутствие финансов и голод в армии. Однако не только реквизиции, но и вообще преступные действия силовых структур и местных управленцев вызывали недовольство населения и падение «авторитета власти» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 28–28об.). Товарищ министра внутренних дел ДВР после поездки по Прибайкальской области 20 мая 1921 г. доложил Председателю Совета министров ДВР о случаях незаконного содержания арестованных под стражей, пыток и избиений заключенных служащими госполитохраны Верхнеудинска, о реквизициях у крестьян хлеба, фуража, одежды, производимых мадьярским отрядом под руководством Ковалева. Столь же нелицепри- ятной характеристики удостоилась в докладе и милиция: «…Работа облмилиции благодаря зарвавшейся госполитохране нарушена. Часть командного состава и милиционеров были замешаны в белогвардейских организациях. Из государственного казначейства по подложным документам было получено 38 000 000 рублей буферными знаками белогвардейской организацией» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–8).
В Амурской области летом 1921 г. поступали жалобы населения на «бесчинства пограничной стражи» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 252–253). На первом съезде инструкторов областного и уездных управлений Восточно-Забайкальской области, проходившем с 2 по 8 июля 1921 г., докладчики говорили о недостатках в деятельности низовых органов управления: «Зафиксированное в протоколах очень выпукло отражает деятельность органов центральной и местной власти и военкомандования, их сепаративные действия по различного рода вопросам вносят полнейшую дезорганизацию в дело государственного строительства и весьма неблагоприятно отражаются на экономическом положении населения, обирательство населения, как например, Кручинским комендантом сбор яиц и других предметов продовольствия или выдача Макавеевским наряда на подводу для его жены безусловно деморализует население, подрывает авторитет власти и вредит завоеваниям трудящихся. Пьянство членов уездных управлений, и также волостных и сельских комитетов, членов милиции и госполитохраны вызывает отвращение и негодование населения» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 12).
Некоторые исследователи считают, что «шумиха» о произволе госполитохраны была поднята оппозиционной прессой и носила провокационный характер, а специальная правительственная комиссия не подтвердила фактов незаконных действий [17, с. 220–221]. Однако частота упоминания в отчетах нарушений свидетельствует, что злоупотребление властью и пьянство наблюдалось во всех областных органах госполитохраны и милиции.
В ходе поездки в Прибайкальскую область 10 января – 10 апреля 1922 г. товарища министра внутренних дел М.Д. Иванова и сотрудника особых поручений И.С. Тяжелова были обнаружены преступные действия госполитохраны и политкомов, которые создали тайную организацию, без суда и следствия расправлявшуюся с неугодными местными жителями. По мнению ревизоров, такой «красный бандитизм еще более вреден для строительства власти, чем белый» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 60). Они дали весьма нелицеприятную оценку ГПО: «…Слово Госполитохрана является пугалом для граждан города Троицкосавска. Вымогательства, взятки, даже простые грабежи – вот работа агентов ГПО. Розыскной работы никакой не ведется – сотрудники рыщут только в поисках серебряной посуды и других вещей и, к чести их нужно сказать, что в городе Троиц-косавске теперь уже больше грабить нечего. Делопроизводства и отчетности в подотделе не существует. … За вымогательства и грабеж во время нашего пребывания в Троицкосавске особым отделом кавалерийской дивизии арестовано и предано суду пять сотрудников ГПО; нами за участие в убийстве Зайцева арестовано двое. Для налаживания и упорядочения работы подотдела была произведена поголовная смена всех сотрудников подотдела» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 75).
Столь же негативно они оценили и работу милиции Прибайкальской области: «Троицкосав-ская уездная милиция по своему составу и работе стоит на последнем месте среди остальных уездных милиций. Вместо “деятельной борьбы” с преступлениями, с выгонкой самогонки, хулиганством, милиция сама пьянствует, сама нарушает порядок и творит безобразия. В Оки-но-Ключах – резиденция участка – пьянствующая милиция устроила беспричинную стрельбу и убила у крестьян двух лошадей. В тех же Оки-но-Ключах любимым развлечением Начальника участка и его подчиненных было катание на лошадях с бутылками самогонки в руках и драки с молодыми парнями в деревне, в результате чего Начальник участка неоднократно был бит. Видимо на эту “добавочную” работу милиция в Окино-Ключах получала с населения добавочное жалованье мукой» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 72). Еще хуже было положение в уездах, вошедших после административных реформ в состав Бурят-Монгольской автономной области: «Чикойская аймачная милиция, также как и милиция Хоринского аймака, после выделения из состава Прибайкальской области превратилась в милицию не правительственную, а инородческую, прервавшую всякие сношения с другими учреждениями милиции. С этого времени аймачная милиция превратилась в убежище для дезертиров и контрреволюционных организаций, в которой скрывались враждебные правительству элементы и просто бандиты» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 73).
В отчетах с мест утверждалось, что преступность силовых органов была вызвана недофинансированием и задержкой выдачи продовольственного пайка и жалованья, вынуждавших их представителей переходить на «самоснабжение» – взятки, поборы, реквизиции (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 80–80об.). Недостатки в их работе исследователи объясняют нехваткой квалифицированных сотрудников, текучестью кадров, низким уровнем культуры и образования работников и главное – постоянной задержкой и невыплатой жалованья [13, с. 42; 19, с. 89; 21, с. 82–83, 170]. Но, вероятно, основная причина крылась в том, что большинство представителей силовых структур, да и власти вообще, воспринимали свои действия как законные, поскольку они были вызваны необходимостью и революционной целесообразностью. Силовой метод решения любых проблем для «человека с ружьем» стал обычной практикой в годы Гражданской войны.
Важнейшей задачей правительства ДВР и органов управления на местах стала мобилизация в армию осенью 1921 г. В областных отчетах и докладах ревизоров постоянно констатировалась плохая работа воинских учетных отделений, незаконное освобождение крестьян от призыва в войска и взяточничество начальников волостных отделений, значительные масштабы дезертирства и пр. Результаты мобилизации в Прибайкальской области изложены в вышеупомянутом докладе М.Д. Иванова и И.С. Тяжело-ва: «Мобилизация в Прибайкальской области прошла очень плохо, в среднем всего явилось не свыше 15 процентов. Причинами к этому была: отчасти агитация злонамеренных лиц, собиравших даже съезды для вынесения протестов против мобилизации (например, Мухоршибирский съезд, созываемый членом Нарсоба Потемкиным), отчасти отношением старообрядческого населения к власти. Кроме того, назначение явки мобилизуемых в Рождественские дни также, конечно, не могло не оказать влияния на успешное прохождение мобилизации среди очень религиозного старообрядческого населения. Нельзя не отметить, что большее количество неявившихся падает главным образом на зажиточный старообрядческий Петровско-Заводской район; в бедных волостях, населенных не старообрядцами, дезертиров или совсем нет или есть очень мало» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп.
1. Д. 4. Л. 75–76). В области наблюдался большой процент освобожденных по семейному положению, особенно в Троицкосавском уезде, «где из 1500 человек призываемых по семейному положению освобождено свыше тысячи; призвано только 450 человек. Виною этому является недобросовестное отношение начальников волостных воинских учетных отделений, за известную мзду выдававших подложные удостоверения…» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 76–77).
После отступления войск НРА и оставления территории Приамурской области население охватила паника и масштабы дезертирства выросли. В Амурской области за непринятие мер по его ликвидации несколько человек были расстреляны по приговорам военно-полевых судов. 17 февраля 1922 г. из Благовещенска на места была отправлена телеграмма начальника тыла Приамурвоенокруга, члена военсовета НРА Трифонова: «Мною было приказано принять самые энергичные меры к ликвидации дезертирства вплоть до конфискации имущества дезертиров и предания их военно-полевому суду. Несмотря на этот приказ некоторые из воинских начальников частей тыла не предприняли никаких мер фактической ликвидации дезертирства и проведения в жизнь этого приказа. Напоминаю всем, что наличие невыловленных дезертиров в каждом уезде и в районе расположения каждой воинской части я поставлю в вину Начальнику этой части и этого уезда, пусть все начальствующие лица не забывают страшную судьбу Начальника Свободненского уездного воинского управления Ильина, который погиб подлой смертью за помощь и укрывательство дезертиров. Приказываю: 1) незамедлительному и полному уничтожению дезертирства каждом уезде и в районе расположения каждой части; 2) дезертиров, неявившихся последнему указанному сроку, арестовать, направить в Благовещенск районный военный суд, а имущество их подвергать конфискации; 3) всех злостных дезертиров, бежавших из частей Нарревармии, которой они были приняты после фактического установления их из рядов армии, расстреливать без суда; 4) случае обнаружения безнаказанного проживания дезертиров в районе расположения какой либо воинской части или какой либо волости приказываю начальников этих частей и начальников волостных воинских учетных отделений расстреливать как пособников и укрывателей дезертиров…» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699.
Оп. 1. Д. 3. Л. 71). Но более благотворно на уменьшение масштабов дезертирства, чем усиление репрессий, повлияла демобилизация «бойцов старших возрастов и увольнение на полевые работы», проведенные весной 1922 г. Власти признавали, что бегство из армии было вызвано «желанием бойцов поправить разрушенное хозяйство» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 258–259об., 264об.).
Уклонение крестьян от мобилизации в армию в отчетах областных управлений называлось среди причин развития бандитизма, другими причинами роста преступности власти считали агитацию контрреволюционных элементов и тяжелую экономическую ситуацию. Весной 1922 г. борьба со «злостным дезертирством» и бандитизмом в Прибайкалье велась воинскими частями совместно с милицией, за апрель-июнь было разгромлено несколько крупных и мелких банд и поймано 742 дезертира. Тем не менее, на 1 августа в области числилось еще 557 дезертиров (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 158–158об.).
Непрерывную угрозу со стороны контрреволюции и банд фиксируют и отчеты Амурской области. В марте 1921 г. были ликвидированы «контрреволюционные организации, проникшие во многие учреждения». Констатировалось, что «в самой области безусловно неспокойно. Были случаи террористических актов должностных лиц – акты сопровождались смертельными исходами. Благовещенск переживает такой же момент выступления террористических групп, как и Чита» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 7–8). «Контрреволюционные» настроения населения Амурской области зимой 1921 г. и весной 1922 г. усилились из-за наступления «приморских белобандитов» и неудачного сопротивления НРА, «в связи с чем разрослось до невероятности дезертирство, а вместе с ним и бандитизм. Население волновалось вследствие распускаемых темными враждебными силами самых нелепых слухов» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л.16 об.). В августе-сентябре 1921 г., мае-июне 1922 г. бандитизм и грабежи «приняли угрожающие размеры», следствием стали самосуды населения над лицами, заподозренными в преступлениях. В 1922 г. в Зави-тинском и Свободненском уездах действовали крупные и «отличавшиеся особенной жестокостью» банды Толкунова, Рязанцева и Сапожникова. Все выступления были подавлены силами воинских отрядов. Свободненский уезд пришлось объявить «прифронтовой полосой, куда выехала сессия военно-полевого суда для разбора дела о Москвитинском выступлении». Приговором этого суда были подвергнуты высшей мере наказания 39 человек (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 249–250; Д. 162. Л. 13, 22, 33об., 46об., 84–86).
Трудноразрешимой проблемой для областных властей стало снабжение армии и населения продуктами и предметами первой необходимости. Областные отчеты за 1920–1922 гг. рисуют крайне тяжелую продовольственную ситуацию в ДВР. Весной 1921 г. во всех областях не был выполнен план по заготовке хлеба и фуража, она велась разверсткой и товарообменом: первая встречала острое сопротивление крестьян, для второго не хватало промышленных товаров. К марту 1921 г. в Прибайкальской области трехпудовая разверстка хлеба оказалась выполненной только на 49%, Верхнеудин-ску угрожал голод, хлебный паек за февраль рабочим и служащим был выдан в половинном размере, из-за нехватки продуктов в городе планировали закрыть больницы (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 9об.).
Даже в Амурской области, которая до революции была «богата хлебом и другими видами продовольствия» и снабжала и Приморье, и Забайкалье, весной 1921 г. областные власти были вынуждены приобретать хлеб за границей и жаловались центру на угрозу голода и сокращение посевов (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4об.). Отчет Амурского Управления продовольствия и снабжения (Управснабпро-да) рисует тяжелейшую картину обеспечения нужд населения и армии. За вторую половину 1920 г. и первую половину 1921 г. в условиях стремительной девальвации бумажных денежных знаков в Амурской области несколько раз изменяли правила заготовок хлебо-фуража для армии и населения: от индивидуального половинного товарообмена перешли к коллективному добровольному, затем – к коллективному принудительному. Но все эти «эксперименты» не достигли результатов: поступление хлеба на ссыпные пункты Управснабпрода на пару месяцев увеличивалось, а затем прекращалось. Запасы продовольствия в октябре-декабре 1920 г. не покрывали и полумесячной нормы потребления области, в декабре 1920 г. – январе 1921 г. недодача хлебных норм населению городов стала «систематической», в феврале-марте 1921 г. заготовка хлебо-фуража несколько улучшилась, а в апреле-мае население «даже скудным продовольственным пайком удовлетворялось только на 50%». Немного лучше снабжалась армия, но и она постоянно недополучала мясо, жиры, овощи (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 15–18).
За годы Гражданской войны из-за реквизиций, подводной повинности, мобилизации мужчин трудоспособного возраста в армию, постоянного недосева крестьянское хозяйство во многих уездах было подорвано и не могло провести посевную кампанию весной 1921 г. В отчете Восточно-Забайкальской области за апрель 1921 г. констатировалось: «У очень немногих хватит на посев и на существование до нового урожая. Большая часть населения принуждена будет вести полуголодное существование, если не будет оказана широкая правительственная помощь. Нерчинско-Заводской, Александровско-Заводской и Акшинский уезды, как больше всех пострадавшие от реакции, а в настоящее время больше всех несущие тяготы натуральной повинности, больше всего обречены на полуголодное существование и очень нуждаются в поддержке и если таковая не будет оказана своевременно, то эти уезды будут обречены на самые тяжелые испытания голода и на голодную смерть» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 3).
Во всех областях для обеспечения крестьян семенами были образованы посевные комитеты, но их деятельность в Прибайкальской и Восточно-Забайкальской областях провалилась из-за отсутствия финансов и товаров, нарушения сроков доставки семян на места по причине плохой работы транспорта, бюрократизма и несогласованности действий разных органов управления (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 3, 29; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 12об.–13). В 1922 г. стихийные бедствия в Прибайкальской и Восточно-Забайкальской областях – засуха, лесной пожар, наводнение, «градобитие», «червяк» – поставили крестьянское хозяйство во многих волостях на грань выживания (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 152об., 155).
В Амурской области весной 1921 г., несмотря на меры Управснабпрода по сбору зерна для посевной кампании, крестьянам в нуждающиеся районы была доставлена только половина собранного зерна (31 982 пуда из 62 304) (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4об.; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 17. Л. 12об.–13). Летом 1921 г. область постигла «небывалая засуха»
и неурожай. Посевная кампания 1922 г. также провалилась, в отчете Амурского областного управления за июль 1922 г. провал объяснялся обнищанием населения и отсутствием помощи центра: «…Крестьянство всей области обладало весьма недостаточными семенными запасами и без приобретения семян со стороны нельзя было надеяться обсеменить более 20–30% нормальной для области площади посева. Об этом своевременно и неоднократно доносилось Центральной власти Республики и указывалось на крайнюю необходимость семенной ссуды, без которой невозможно было увеличить посевную площадь и предвиделась неизбежная голодовка в ближайшем будущем. Но Центральная власть Республики не оказала крестьянству Амурской области в тяжелый момент необходимой поддержки, очевидно, вследствие неимения к тому возможности, так что голодовка явилась неизбежной и фактически в отчетном месяце она уже началась …». В области было засеяно только 150 тыс. дес., что составило около 30% максимальной площади посева в 1918 г. (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 23–23об.).
Приамурская область летом-осенью 1921 г. оказалась в тяжелейшем положении, продовольствия не хватало не только населению, но и армии, областные власти высказывали опасения, что «армия может бросить в силу голода хорошо укрепленные позиции и представится полная возможность вторжения на территорию Приамурья семено-каппелевцев и меркулов-цев» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 249–251; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 3. Л. 2) [14, с. 76].
С большими трудностями столкнулись области и в реализации решений правительства по сбору налогов. 23 апреля 1921 г. Учредительное собрание ДВР ввело прогрессивный подоходно-поимущественный налог со всех видов доходов [11, с. 459]. Министерство финансов затянуло с разработкой деталей налогообложения, только в конце лета 1921 г. правительство постановило взимать его в виде продовольственного денежно-натурального налога. Но поскольку размеры обложения вызвали массовые протесты с мест, Народное собрание ДВР 18 декабря 1921 г. приняло новую инструкцию о налогообложении, а к сбору налога на местах приступили в феврале-марте 1922 г. Налог поступал всю весну 1922 г., 1 мая закончился срок его добровольной уплаты и власти приступили к взысканию недоимок (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 30об.–31).
Для Амурской области налог первоначально был установлен в 1100 тыс. руб., затем – 500 тыс. (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 255об.–257об.). В отчете областного управления от 27 мая 1922 г. констатировалось: «Прогрессивно-подоходный поимущественный налог вводится в Амурской области впервые, и население, как можно было заметить, относится к нему осторожно. Его пугает и сумма налога и принципы взимания. Пример – кругом слышно о самом бедственном положении населения. Этот признак зловещ был еще с осени. Когда же он, поддержанный некоторой сумятицей в изменении системы сбора и обложения, дал возможность крестьянскому населению думать, что может вследствие разных упоров и итальянской забастовки, по налогу последует ряд новых инструкций, не дающих возможность налоговому аппарату приступить к сбору налогов и совсем увернуться от него» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 15об.). В июньском отчете, в отличие от вышеприведенного майского, председатель областного управления уже писал о «благожелательном» отношении крестьян к налогу. Однако результаты сбора продналога свидетельствовали об обратном: с 25 марта по 1 июля 1922 г. поступило лишь 144,3 тыс. руб. из вышеуказанных 500 тыс. (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 30об.–31, 33об.).
С таким же сопротивлением крестьян сбору налогов встретились власти Прибайкальской области. К поступлению в 1922 г. в счет налога 1921 г. планировалось 180 тыс. руб., к 25 апреля 1922 г. поступило 60 тыс. деньгами и на 9 тыс. натурой. Уклонения от уплаты налога наблюдалось по всем уездам, но хуже всего дело обстояло в отдаленных от областного центра местах. На указанный срок по Верхнеудинскому району поступило около 70% общей суммы, по Троиц-косавскому району – 45%, по Красноярскому – 30%, по Петровско-Заводскому – 30%, Баргу-зинскому – 15% (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 40). Власти Прибайкалья жестко отреагировали на сопротивление населения: «С 1 мая ввиду окончания срока добровольной уплаты население денежно-натурального налога Областным управлением постановлено: 1) всю неуплаченную сумму в счет налога считать недоимкой за населением области; 2) предать в первую очередь суду с немедленным арестом председателей и секретарей тех волнарревко-мов, население которых не внесло налога до 30%; 3) немедленно производить опись и про- дажу имущества недоимщиков, согласно Закона правительства___» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 40–40об.).
Несмотря на репрессии, вплоть до октября 1922 г. в отчетах констатировалось «удручающее» отношение населения некоторых уездов к сбору налогов, основными причинами «неу-спешности» называли «троекратное изменение инструкции», скомпрометировавшее закон о налоге и заставившее население занять выжидательную позицию («авось де еще изменят, облегчив налог, или же совсем отменят»), неурожай, стихийные бедствия, «контрреволюционная агитация зажиточного крестьянства» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 152–155, 158–158об.; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 77).
В условиях острого дефицита областных бюджетов недодача и многомесячные задержки выдачи продовольственного пайка служащим и рабочим государственных учреждений и предприятий стали носить систематический характер. Введение золотого рубля и переход от продпайка к выплате заработной платы в соответствии с тарифной сеткой лишь ухудшил положение рабочих и служащих, поскольку жалованье выплачивалось также нерегулярно и не в полном объеме. Органы власти на местах вынуждены были не только сократить численность служащих и рабочих, получавших содержание из государственной казны, но и снять с себя заботу о социально незащищенных слоях населения – инвалидах, семьях народоармейцев, сиротах и стариках. Причиной был дефицит областных бюджетов и отказ центра софинанси-ровать местные нужды (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 24об.–25, 263–264; Д. 161. Л. 34, 36об., 111–112; Д. 162. Л. 12–14, 24об., 27об., 37об, 58–58об, 78об.; Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 10; Д. 17. Л. 7, 15–15об., 22–22об.).
В таких условиях не удивлял рост социальной напряженности и оппозиционных настроений. Интересно, что областные органы управления и представители центральной власти, посещавшие регионы, не стремились приукрасить внутриполитическую ситуацию в республике. Весной 1921 г. в областных отчетах и сводках МВД, наряду с констатацией поддержки правительства широкими народными массами постоянно фиксировалось «определенно-реакционное» или «тревожное» настроение населения во многих волостях Прибайкальской, Забайкальской и Амурской областей (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 1–1об., 6об.).
В Западно-Забайкальской области 20 февраля 1921 г. должен был открыться областной съезд, но «ввиду выявившегося отрицательного отношения деревни к существующей власти» он был признан несвоевременным и отложен на неопределенное время. Неблагожелательное отношение к власти отмечалось среди бурят Чикойского аймака и крестьян Хилкойского района области: «Заметен в политическом отношении сдвиг вправо. Объясняется отчасти провокацией, настраивающей крестьян против “коммунии”, отчасти же самочинными распоряжениями продовольственных агентов, производящих разверстку и обремененностью подводной повинностью. Казаки и буряты более реакционные нежели крестьяне» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д.106. Л. 16–16об.).
Политическое положение Восточно-Забайкальской области в сводке МВД за период с 1 по 15 марта 1921 г. описывалось так: «…В местах, особенно пострадавших от реакции, отношение к нынешней власти благожелательное, а в деревнях, не пострадавших от белогвардейцев, замечается недружелюбное и даже враждебное отношение. Конечно, говорить о массе, как о целом, не приходится. Без сомнения и тут, и там есть и сторонники, и противники в зависимости от материального положения той или иной части общества. Деревня раскололась на два лагеря, и в то время, как одна часть организует комячейки и комсомолы, другая часть усиленно распространяет слухи о скором возвращении белогвардейцев». Среди бурят «сильное брожение» вызывали слухи об успехах Унгерна (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 2, 11).
В некоторых районах крестьянское своеволие, обостренное революционной вольницей, свидетельствовало о номинальном характере подвластности данных территорий ДВР даже в начале 1922 г.: «Петровско-Заводской район – колыбель фракции меньшинства крестьян Нарсоба, … представляет собою район, где мобилизация почти совсем не прошла, где из дезертиров можно сформировать целую бригаду, где продналог чуть не пришлось выколачивать силой, наконец, район, где орудует несколько разбойничьих шаек, сделавших непроездными некоторые тракты. Население этого района исключительно старообрядческое, зажиточное, не признающее никакой власти. Судьбы решают сходы, присвоившие себе права Новгородского вече» (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 52). Подобные же самостийные республики
ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ представляли собой Бичурская, Малетинская, Шаралдайская волости (РГИА ДВ. Ф. Р-4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 43, 53–54).
Областные отчеты за 1922 г. содержат противоречивые данные о внутриполитическом положении ДВР: с одной стороны, в них отмечалась поддержка власти большинством крестьян, с другой – приводилось множество сведений о недовольстве населения тяжелым экономическим положением и длительными задержками заработной платы. Например, в отчете Амурской области за сентябрь 1922 г. констатировалось: «Настроение населения, почувствовавшего сильную руку власти, значительно изменилось и многие деревни на сельских сходах выносят постановления о всемерной поддержке существующей власти» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 86–86об.). И в этом же отчете упоминается о развитии в области политического бандитизма «до значительных размеров», о «заметном охлаждении населения к делу помощи голодающим Совроссии», об отказе крестьян исполнять требования «обывательских подвод для нужд милиции по преследованию банд преступников» (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 85–86). Из-за трехмесячной невыплаты жалованья в июле 1922 г. назревала забастовка служащих Благовещенского городского управления (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 47). В Прибайкальской области из-за больших долгов по заработной плате 2 августа 1922 г. забастовали медработники Троицкосавско-го уезда, 20 сентября – Баргузинское уездное управление (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 145, 159–159об.). О падении авторитета коммунистов и росте влияния оппозиции свидетельствовали результаты выборов в Народное собрание ДВР в июне 1922 г. Например, в Прибайкальской области от РКП и профсоюзов были избраны 4 чел., от революционного крестьянства 3 чел., от оппозиции 8 чел. (РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 93, 158–162).
Таким образом, местные органы власти буферного государства вынуждены были решать множество непосильных задач: обеспечивать мобилизацию населения в армию, снабжать армию и население продовольствием, проводить посевную кампанию, получать от крестьян продовольствие и налоги, вводить подводную повинность и др. Все эти «больные» для власти вопросы вызывали обострение внутриполитической ситуации в республике. Давление подводной повинности, налогов, хлебозаготовок на крестьянское население вызывало его активное и пассивное сопротивление. Действия государственных органов по установлению контроля над территорией и населением, обложение последнего налогами и натуральными повинностями сталкивались с традиционными крестьянскими моделями поведения, усугубленными длительным периодом «революционной вольницы». Население практиковало разнообразные формы уклонения от исполнения требований властей: затягивание сроков выплаты налогов с надеждой на их отмену или уменьшение, «письма во власть» с жалобами на тяжесть подводной повинности, на стихийные бедствия, сокращение посевов, продажа зерна за границу и пр. Активные формы сопротивления – «контрреволюционная» агитация, забастовки, политический бандитизм, вооруженные восстания – также практиковались, но были сравнительно редкими на общем фоне пассивного уклонения. Население словно проверяло власть на прочность и способность к принуждению.
Список литературы "Больные вопросы" и внутриполитическое положение Дальневосточной Республики в 1920-1922 гг
- Авдеева Н.А. Дальневосточная народная республика (1920-1922 гг.). Хабаровск, 1957.
- Авдошкина О.В. Образование дальневосточного буфера и тактика политических партий и организаций // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2010. № 3. С. 67-78.
- Азаренков А.А. Политическая модель Дальневосточной республики: механизм функционирования институтов власти «буферного» государства, 1920-1922 гг. Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КПГУ, 2001.
- Балицкий А.В., Ципкин Ю.Н. К вопросу о политическом строе Дальневосточной республики // Из истории Дальневосточной республики: сборник научных трудов. Владивосток: ДВО РАН, 1992. С. 29-37.
- Буяков А.М. Структура и руководящий состав Государственной политической охраны ДВР 1920-1921 гг. // Известия Российского государственного исторического архива Дальнего Востока. Т. 10. Владивосток, 2007. С. 173-195.
- Василевский В.И. К вопросу о парламентаризме в ДВР // Из истории Дальневосточной республики: сборник научных трудов. Владивосток: ДВО РАН, 1992. С. 48-54.
- Гладких А.А. Органы государственной политической охраны Дальневосточной республики // Россия и АТР. 2008. № 1. С. 32-42.
- Дальневосточная республика: становление. Борьба с интервенцией (февраль 1920 г. -ноябрь 1922 г.): документы и материалы. В 2-х ч. Ч. 2. Владивосток: Дальнаука, 1993.
- Егунов Н.П. Очерки истории Дальневосточной республики. Улан-Удэ, 1972.
- Землянский В.Л. Временное Народное собрание Дальнего Востока и разрешение вопроса о присоединении Приморской области к Дальневосточной республике // Вестник Сургутского государственного университета. 2015. № 4. С. 36-41.
- История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 1. Дальний Восток России в период революций 1917 г. и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003.
- Орнацкая Т.А. Внешняя политика Дальневосточной республики (1920-1922 гг.). Хабаровск, 2008.
- Орнацкая Т.А. Народная милиция Дальневосточной республики: комплектование и подготовка кадров // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2016. № 2. С. 39-47.
- Папин Л.М. Крах колчаковщины и образование Дальневосточной республики. М.: Изд-во МГУ, 1957.
- Позняк Т.З. Создание местных органов власти в Дальневосточной республике: декларации и реальность // Россия и АТР. 2020. № 2. С. 63-79.
- Саблин И. Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- Сонин В.В. Становление Дальневосточной республики (1920-1922). Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1990.
- Сонин В.В. Высшие органы государственной власти Дальневосточной республики (по Конституции 1921 года) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 5. С. 88-93.
- Худяков П.П. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в ДВР // Из истории Дальневосточной республики: сборник научных трудов. Владивосток: ДВО РАН, 1992. С. 86-91.
- Ципкин Ю.Н. Дальневосточная республика: опыт демократической альтернативы // Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.). Вып. 1. Хабаровск, 1999. С. 119-146.
- Чепик М.В. Деятельность органов государственной политической охраны по обеспечению безопасности Дальневосточной республики (1920-1922 гг.): дисс. ... канд. ист. н. Владивосток, 2016.