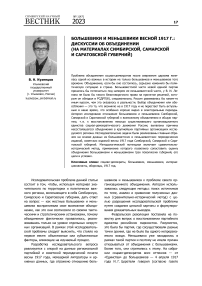Большевики и меньшевики весной 1917 г.: дискуссии об объединении (на материалах Симбирской, Самарской и Саратовской губерний)
Автор: В.Н. Кузнецов
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (47), 2023 года.
Бесплатный доступ
Проблема объединения социал-демократов после свержения царизма являлась одной из важных в истории не только большевиков и меньшевиков того времени. Объединение, если бы оно состоялось, серьезно изменило бы политическую ситуацию в стране. Большевистской части новой единой партии пришлось бы потесниться под напором ее меньшевистской части, у В. И. Ленина не было бы такого безоговорочного права на принятие решений, которым он обладал в РСДРП(б), следовательно, Россия развивалась бы каким-то иным курсом, чем это оказалось в реальности. Выбор объединения или обособления — это то, что возникло не в 1917 году и не перестает быть актуальным в наше время, что особенно хорошо видно в электоральные периоды. Автором исследовано отношение большевиков и меньшевиков Симбирской, Самарской и Саратовской губерний к возможному объединению в общую партию, т. е. к восстановлению некогда существовавшего организационного единства социал-демократического движения России; выявлены причины несостоявшегося объединения в крупнейших партийных организациях исследуемого региона. Исследовательские задачи были реализованы главным образом на основе данных из большевистских и меньшевистских периодических изданий, советских изданий весны 1917 года Симбирской, Самарской и Саратовской губерний. Методологический потенциал включает сравнительно- исторический метод, применение которого позволило сопоставить оценку объединения большевиками и меньшевиками трех поволжских губерний, его цели и условия.
Социал-демократы, большевики, меньшевики, интернационалисты, оборонцы, 1917 год
Короткий адрес: https://sciup.org/14127561
IDR: 14127561
Текст научной статьи Большевики и меньшевики весной 1917 г.: дискуссии об объединении (на материалах Симбирской, Самарской и Саратовской губерний)
Исследовательская проблема данной статьи состоит в том, чтобы, используя материал значительного по территории и политически важного региона, включающего в себя Симбирскую, Самарскую и Саратовскую губернии, дать ответ на вопрос — как местные большевики и меньшевики воспринимали свое возможное объединение, как это они соотносили со своими тактическими и стратегическими установками, почему объединение фактически провалилось, реализовавшись только на уровне отдельных некрупных организаций. В рамках этой исследовательской проблемы следует выяснить, что стояло на первом месте: объективные или субъективные факторы, влияющие на изучаемый процесс.
Разработка исследовательского вопроса реализуется с опорой на данные региональной партийной и советской периодической печати весны 1917 года, мемуарной литературы и архивных данных, где отражено отношение боль- шевиков и меньшевиков к проблеме своего организационного объединения. Автором использовались следующие методы: поиск источников по теме, анализ и сравнение полученных данных (сравнительно-исторический метод) с целью разрешения исследовательской проблемы путем создания цельной картины и формулирования доказательных выводов.
Февральская революция поставила на повестку дня вопрос о восстановлении партийного единства российских марксистов. Разумеется, это была бы партия, где сосуществовали разные точки зрения, где не было бы одного непререкаемого вождя. Меньшевики уже находились в рамках такой партии и поэтому не имели причин отказываться от объединения с большевиками. Более того, они стремились к этому. На собрании социал-демократов всех оттенков — от «Единства» до большевиков — 4 апреля 1917 года И. Г. Церетели говорил (согласно газете
«Единство») следующее: «Наша задача — объединение. Только оно поведет к победе. Никакие призывы к разъединению не ослабят могучего стремления пролетариата к созданию единой партии. Скоро в ряды партии придет и Ленин, ибо жизнь научит его старой истине марксизма: «Индивидуумы могут ошибаться, классы — никогда!». Вот почему я не боюсь ошибок Ленина и готов объединиться даже с ним» [4, с. 22].
Ленин В. И. же с самого начала был против объединения, что видно из письма 19 марта А. М. Коллонтай: «По-моему, главное теперь — не дать себя запутать в глупые «объединительные» попытки с социал-патриотами (или, еще опаснее, колеблющимися, вроде ОК, Троцкого и К) и продолжать работу своей партией в последовательно-интернационалистском духе» [6, т. 49, с. 402]. В письме от 12 апреля к В. А. Карпинскому он выразился еще лапидарней: «Все воют и вопят за «единство» всей РСДРП. Мы, конечно, против» [6, т. 49, с. 436]. К концу мая его точка зрения изменилась, изменилась и официальная точка зрения партии. В статье «К вопросу об объединении интернационалистов» В. И. Ленин писал: «Всероссийская конференция нашей партии постановила: признать сближение и объединение с группами и течениями, стоящими на почве интернационализма, необходимым...». Говоря о наметившемся объединении с межрайонцами, он заканчивал статью так: «Какое бы то ни было дробление сил, с нашей точки зрения, ничем оправдать нельзя» [6, т. 32, с. 112—113]. Взгляды В. И. Ленина и партийной верхушки изменились тогда, когда на периферии объединительные тенденции, наоборот, стали угасать в силу нарастания разногласий между большевиками и меньшевиками, даже с интернационалистами.
Но начиналось все хорошо, казалось объединение марксистов перед лицом народников, либералов, а особенно контрреволюции — дело времени. Действительно, насколько велики различия между большевиками и меньшевиками перед лицом хотя бы эсеров, не говоря о кадетах или генералах? Чего больше: общего и различного?
Уже на первом собрании саратовской большевистской организации 25 марта был поднят вопрос об объединении с меньшевиками и постановлено предложить меньшевикам устроить совместное предварительное совещание.
10 апреля состоялось организационное собрание меньшевиков Саратова, где в числе актуальных обсуждался и данный вопрос. О проблеме единства социал-демократического дви- жения высказал свое мнение видный городской меньшевик Д. К. Чертков: «Разъединение большевиков и меньшевиков было вызвано условиями подпольной работы, но теперь с выходом на широкую дорогу не должно быть места разъединению» [7, 1917, 13 апреля].
Наиболее близки большевикам были интернационалисты во главе с О. Ю. Мартовым. Неудивительно, что объединение именно с ними казалось большевикам наиболее реальным. 19 апреля открылась общегородская конференция саратовских большевиков, на которой рассматривался вопрос об объединении с интернационалистами. Докладчиком выступил И. В. Мге-ладзе: «Объединение во что бы то ни стало, объединение на почве программы и устава, выработанного в 1903 году, невозможно. С «оборонцами» прежнего типа объединение невозможно, с меньшевистской организацией и комитетом и группой «Рабочей газеты» — возможно, поскольку эти организации будут стоять на строго интернационалистских позициях. Между нами могут быть большие различия по вопросам пролетарской тактики, но если по основным вопросам момента мы найдем общую линию, то частности нас не разъединят. Платформой для объединения должны служить положения, сформулированные в Циммервальде и Кинтале».
Все выступающие в прениях, кроме П. А. Лебедева, так или иначе, поддержали идею объединения.
Фенигштейн Я. Г.: «Названия большевик и меньшевик должны быть отброшены, теперь имеются деления — интернационалисты и соци-ал-националисты. Что касается объединения с местной организацией социал-демократов меньшевиков, то об этом даже говорить трудно, так как у них нет ясной и определенной политической физиономии».
Раппопорт С. Я.: «В комитете меньшевиков тоже нет единства, как нет его и в других социал-демократических организациях. Поэтому необходимо объединяться не с организациями, а с определенными течениями, стоящими на интернационалистских позициях».
Антонов В. П.: «Кому и с кем объединяться? Говорят, большевикам с меньшевиками. Но представляют ли и те, и другие то идейное единство, которым они отличались раньше. Мне кажется — нет. Вследствие изменившихся социально-политических условий наши течения в значительной степени изжили себя; если они существуют организационно в настоящее время, то это в силу психологических навыков. Нам предстоит завершить двуединый процесс: с од- ной стороны, отколоться от националистов (контакт по некоторым вопросам текущего момента может быть установлен), а с другой стороны, объединить все силы интернационалистов. Лебедев относится пессимистично к вопросу об объединении, так как объединяться с отдельными лицами не имеет смысла, а объединяться с группами, заключающими в себе разнородные элементы, — невозможно. Различия будут существовать и после войны. Различия существуют не только по вопросу о войне, но и по вопросу об отношении к буржуазии и этот последний вопрос является очень важным, поэтому его с чаши весов убирать нельзя».
Милютин В. П.: «В настоящий момент нужно не объединение, а главным образом оформление. Нужно идти на общий съезд, чтобы объединить интернационалистов. Что же касается местных дел, то здесь возможны только отдельные соглашения, но об организационной связи можно будет говорить только после общего съезда. Необходимо создать интернационалистский центр, который скрепит все интернационалистские силы».
Мицкевич С. И.: «Нельзя стремиться к абсолютной чистоте принципов, это невозможно, тогда у нас получатся многочисленные группы, но не будет партии. У нас есть основное деление: интернационализм и социал-шовинизм. Мы должны идти на общий съезд и не нужно этого бояться: наша позиция проводится самой жизнью, и она обязательно возьмет верх в объединенной партии».
Ковылкин С. Т.: «Оформление партии происходит не сейчас, оно началось 10 лет назад, когда нас разъединили вопросы об основных принципах классовой борьбы, от которых отказался Плеханов. Поэтому нужно объединиться только с теми группами, которые стоят на почве непримиримой классовой борьбы в международном масштабе».
Лебедев П. А., который даже среди большевиков отличался полной непримиримостью ко всему, что отклонялось от большевистской линии, выступивший принципиально против объединения и утверждавший, что «искусственное объединение ни к чему не приведет», оказался в одиночестве.
Ему возражал И. В. Мгеладзе: «Тов. Лебедев указывает, что мы находимся в периоде обострения классовой борьбы. Совершенно верно. Но именно поэтому мы должны создать единую партию, которая в этот решительный момент могла бы творить единую политику пролетариата. Вокруг рабочего класса будут суще- ствовать две партии: социал-шовинистов и интернационалистов, но нельзя допустить, чтобы в пролетариате и около него существовало три партии». В завершение работы этого дня конференции И. В. Мгеладзе предложил свою резолюцию в пользу объединения, собрание закончилось без принятия какого-либо решения [8, 1917, 25 апреля].
На новом заседании 23 апреля собравшиеся все же приняли резолюцию по вопросу об объединении: «Возможно и необходимо полное слияние всех течений, ведущих интернационалистскую политику, т. е. отвергающих гражданский мир, стоящих на почве непримиримой классовой борьбы, ведущих борьбу за немедленное окончание мировой войны. Конференция выражает твердую решимость добиться такого объединения, несмотря на возможные различия по некоторым вопросам пролетарской тактики» [8, 1917, 28 апреля].
Однако резолюция так и не была проведена в жизнь. Вначале этому помешал апрельский кризис, а потом нарастание все новых и новых разногласий между большевиками и меньшевиками. Жизнь сама определила такую форму объединения, о которой говорили С. Я. Раппопорт и С. Т. Ковылкин: объединяться не с партиями, а с группами и лицами. Так и произойдет позднее, когда отдельные группы и лица меньшевиков и эсеров вступят в большевистскую партию.
Казалось бы, все шло к объединению и в Самаре. 11 марта здесь, по инициативе Совета рабочих депутатов, была созвана городская конференция всех фракций социал-демократов (большевики, меньшевики и Бунд). Собралось около пятидесяти человек с целью выяснения возможного слияния или выработки формы объединения фракций. Как с удовлетворением отмечали «Известия Совета рабочих депутатов», «всеми ощущалась важность создания единой партии. Отмечали, что острота разногласий в значительной степени стерлась и больше находится в психологии фракционеров. Всех собравшихся устроила следующая формула: «Буржуазия играет сейчас далеко не второстепенную роль. Пролетариат поддержит Временное правительство в его прогрессивных стремлениях впредь до учреждения демократической республики, не отказываясь при этом от самостоятельных выступлений и сохраняя свои организации, копя силы для борьбы за социализм. Пролетариат стремится к скорейшей ликвидации войны, но вместе с тем он будет защищать добытую свободу от посягательств изнутри и извне» [5, 1917, 18 марта].
В этот же день «Известия» опубликовали такое обращение к рабочим: «От Совета рабочих депутатов. Товарищи рабочие!.. Помните, что у вас, как у рабочих, свои классовые задачи! Скорее организуйтесь! Входите в рабочую социал-демократическую партию» [5, 1917, 11 марта]. Совет как о решенном писал о самарской социал-демократической организации без деления ее на (б) и (м).
26 марта прошло собрание большевиков городского района Самары, на которое пришло примерно 100 человек. По вопросу об объединении единогласно решили: «Есть необходимость постоянного координирования с меньшевиками. Сам же вопрос об объединении может быть решен только на общероссийском съезде». Присутствовавший на собрании меньшевик А. П. Кравченко предложил форсировать объединение и, не дожидаясь съезда, потребовать от городского комитета немедленного созыва собрания меньшевиков и большевиков и выбрать объединенный комитет. Такая поспешность не пришлась по вкусу собравшимся. Предложение всеми против двух голосов было отклонено [5, 1917, 28 марта].
«Известия» продолжали рекламировать среди рабочих идею объединения: «Товарищи рабочие! Задачи рабочего класса и близость созыва Учредительного собрания диктуют нам необходимость скорейшего создания единой социал-демократической рабочей организации в Самаре. Этому не должны мешать частные разногласия, существующие в нашей среде. Всем, кому дороги интересы рабочего класса и развития РСДРП, должны откликнуться на наш призыв и стремиться к немедленному объединению. Самарская группа социал-демократов меньшевиков» [5, 1917, 29 марта].
Вскоре «Известия» с радостью откликнулись на предпринимаемые социал-демократами шаги к объединению: «Вчера — общее собрание всех социал-демократов по инициативе меньшевиков. Из всех выступивших ораторов ни одного против объединения. Расходились лишь в пути, которым надо идти. Меньшевики предлагали изживать разногласия в широком обсуждении на собраниях, не тормозя создания единого центра. Большевики предлагали придти вначале к соглашению в местных центрах, а затем уже внести вопрос на обсуждение всех членов партии. 355 против 105 прошла резолюция меньшевиков о созыве общего учредительного собрания» [5, 1917, 31 марта].
На конференции большевиков Самары 9 апреля, где присутствовало 68 делегатов, по вопросу об объединении социал-демократов выступил докладчик от временного комитета партии А. Х. Митрофанов. Этот вопрос вызвал особенно горячие прения. Громадным большинством была принята резолюция о необходимости сейчас же приступить к слиянию с меньшевистским течением, обусловив объединение признанием некоторых положений, из которых меньшевиками признается неприемлемым только одно: лозунг гражданской войны для Европы.
23 апреля состоялось объединенное собрание меньшевиков, заслушавших доклад Е. Я. Успенской об объединении местных организаций РСДРП. Всеми голосами против трех была принята резолюция: «Теоретические разногласия среди членов партии должны вызывать широкий обмен мнений, но не настолько непримиримы, чтобы поддерживать существующий организационный раскол. Если бы большевистская организация продолжала настаивать на выработке объединительной платформы, то признать необходимость отмежевания от социал-шовинистов, а наряду с этим и социал-анархистов. Пункт о гражданской войне принять только в такой формулировке: “Признаем неизбежность гражданской войны, понимаем ее как обострение классовой борьбы пролетариата за мир без аннексий и контрибуций и полную демократизацию строя европейской жизни”» [5, 1917, 27 апреля].
К концу апреля все более становилось ясно: объединения в Самаре не будет. Среди большевиков имелись влиятельные противники объединения. Большевик А. Я. Бакаев вспоминал: «Хорошо помню, как в начале апреля мы собирались с меньшевиками по их приглашению для обсуждения вопроса об объединении. И каждый раз мы уходили от них со все большей убежденностью, что они не только соглашатели, но и смертельные враги, ибо они упорно настаивали на соглашении с буржуазией и отвергали, не принимали гражданской войны. Они называли нас сумасшедшими» [1, с. 174].
Большевичка М. С. Бешенковская констатировала: «Надо сказать, что отдельные сторонники слияния с меньшевиками были и в рядах большевистской организации, например, Шестопал, С. М. Белов. А. С. Бубнов, А. Х. Митрофанов, С. И. Дерябина резко выступали против объединения. Тов. Бубнов говорил меньшевикам, что объединиться можно только при условии, если меньшевики примут программу большевиков, если меньшевики порвут с социал-шовинизмом. “Практически, — указал Бубнов, так как эти вопросы не ставятся Центральными комитетами большевиков и меньшевиков, их следует снять; мы на местах их разрешать не имеем права, ибо это основной вопрос тактики нашей партии”» [2, с. 167].
Итак, в итоге большевиков и меньшевиков разделил вопрос, который, в силу своей неактуальности, даже не стоял в дофевральские дни и сразу после февраля: вопрос о гражданской войне. Отдельные совместные акции все же проводились. Так, «Известия» писали: «По постановлению представителей комитетов большевиков, меньшевиков и Бунда сегодня выйдет общая первомайская демонстрация к рабочим» [5, 1917, 17 апреля].
В Симбирске все было просто. Количественно и качественно слабая местная большевистская группа легко пошла на объединение с меньшевиками в единую социал-демократическую организацию. Большевик А. В. Швер вспоминал: «Созвав собрание социал-демократов, мы от имени большевистской группы выступили с декларацией, которая могла служить почвой для объединения. Мы заявили, что вступление в объединенную организацию для нас приемлемо только в том случае, если состав организации будет исключительно интернационалистский, а не оборонческий». Однако членами объединенной организации РСДРП стали в том числе и оборонцы, большевики же играли в объединенной организации незначительную роль.
Гимов М. А., выступая на Первой Симбирской конференции РКП(б) в декабре 1918 года, следующим образом объяснял объединение: «Еще до начала революции здесь у нас в Симбирске существовала маленькая подпольная организация, так называемая “объединенная”. После того как совершилась революция, мы вышли из подполья и начали работать легально, в то время нас всего было 3—4 человека. Нам с первых же дней работы пришлось столкнуться с военно-промышленным комитетом, где без исключения все места занимала буржуазия, нам стало ясно, что они не пойдут с нами. Продолжая свою работу, они определенно стали против нас, хотя себя и называли организаторами и защитниками рабочего класса. В дальнейшей работе нам пришлось столкнуться с меньшевиками. Несмотря на эти столкновения, нам пришлось объединиться вместе и образовать “единую социал-демократическую организацию”» [3, ф. 1, оп. 1, д. 7, л. 1—2].
Но даже и в Симбирске в апреле начинают проскакивать искры между большевиками и меньшевиками. Первый серьезный конфликт произошел 16 апреля на съезде фабричных комитетов суконных фабрик губернии. Здесь явно даже для неосвященных обозначилось серьезное несходство первых и вторых. Прибывшие на съезд большевики Ю. К. Милонов из Самары, Н. Д. Воздвиженский из Сызрани и А. Г. Степанов из Симбирска вошли в конфронтацию не только с эсерами в лице симбирян П. Х. Гладышева, А. М. Базжина, но также и меньшевиками Н. Н. Чебоксаровым и П. Ф. Филипповым. Споры шли об «Апрельских тезисах», о войне, о 8-часовом рабочем дне. В итоге соглашатели провели свою оборонческую резолюцию о войне, получили большинство в избранном правлении союза текстильщиков. Большевики же победили по вопросу 8-часового рабочего дня.
Объединение большевиков и меньшевиков произошло не только в Симбирске. Оно имело место в крупном промышленном городе Царицыне Саратовской губернии, в ряде крупных селений Самарской губернии. В Иващенкове (ныне Чапаевск) в марте возникла объединенная организация РСДРП, за каждой фракцией которой сохранялось право свободной пропаганды своих идей. Организация, насчитывающая 35 человек, издавала газету «Работник». Объединились социал-демократы также в Балаково и Абдулино.
В Царицыне объединение прошло наподобие Симбирска легко, только в отличие от Симбирска, где большевики растворились среди меньшевиков, в Царицыне они смогли занять заметное место в общей организации. 12 марта большевики провели организационное собрание, где должен быть выбран местный комитет РСДРП(б), но пришедшие на собрание меньшевики предложили собравшимся другой вариант — избрать объединенный комитет РСДРП. Собравшиеся большевики поддержали это решение. 13 марта из ссылки в Царицын вернулся большевик С. К. Минин, также поддержавший объединение.
24 марта состоялось совместное партийное собрание, на котором произошло формальное объединение большевиков и меньшевиков, и был избран комитет новой организации, куда вошли шесть большевиков, в том числе С. К. Минин и четыре меньшевика. На Всероссийское партийное совещание в Петроград были делегированы С. К. Минин и меньшевик Д. А. Сагирашвили.
Понимание большевиками и меньшевиками друг друга не выросло от их объединения, тем более что царицынские меньшевики в основном являлись оборонцами. Поэтому шла борьба и в объединенной организации, и в Совете. Ситуация еще более накалилась, когда С. К. Минин вернулся с Апрельской конференции РСДРП(б) сторонником «Апрельских тезисов» и противни- ком объединения. 20 апреля он выступил на городском партийном собрании с обоснованием своей новой проленинской позиции. Против «Апрельских тезисов» выступил лидер местных меньшевиков Д. В. Полуян. Собрание поддержало С. К. Минина. К этому времени большевики получили вторую яркую фигуру — Я. З. Ер-мана, прибывшего в город по поручению ЦК РСДРП(б) и бывшего противником объединения. После этих событий распад объединенной организации стал вопросом времени.
Чисто большевистская организация оформилась в мае в Николаевске (Пугачев), где в июле членом партии стал В. И. Чапаев. Решительно отказались от объединения с меньшевиками большевики Сызрани.
Дальнейшее развитие революции все дальше разводило большевиков и меньшевиков. Жизнь требовательно задавала вопросы, такие как: Буржуазия — враг или нет? Можно ли поддерживать правительство классовых врагов? Что может быть реальной альтернативой буржуазному Временному правительству, кроме Советов?
Уже летом 1917 года проблема объединения стала позавчерашним днем развертывающегося процесса. Эти изменения отразил в одной из своих статей упоминавшийся ранее П. А. Лебедев: «То противоестественное сожительство революции и контрреволюции, которое носило у нас название коалиционного правительства, по-видимому, подходит к концу. Между двумя лагерями двух непримиримых классовых противников беспомощно мечутся соглашатели меньшевики и эсеры, пытаясь создать какой-то худой мир на место доброй ссоры. Но пришел, наконец, момент, когда им ясно придется решить вопрос: на чью сторону они станут: на сторону революции или контрреволюции» [8, 1917, 6 июля]. Вопрос был решен — на сторону контрреволюции.
Полученные данные позволяют утверждать, что отношение региональных большеви- ков и меньшевиков к объединению первоначально было положительным. Февральская революция сделала многие старые противоречия неактуальными, а новые противоречия еще не вырисовывались. Однако по мере того как политика Временного правительства обостряла старые социальные споры и конфликты и создавала новые, а большевики и меньшевики оценивали их по-разному, перспективы объединения становились все более призрачными. Объективные причины не дали реализоваться процессу объединения социал-демократов, без сомнения, изменившему бы в большей или меньшей степени вектор развития страны.
Изучение реакции большевиков и меньшевиков на возможное объединение позволило сделать следующие выводы.
Первое: независимо от позиции партийных верхов, на местах имела место сильная тяга к единству социал-демократов.
Второе: большинство прежних разногласий потеряли свою актуальность в новый исторический период и не могли больше быть причинами раскола марксистов.
Третье: водоразделом, за которым объединение было бы невозможным, явилось отношение к войне. Оборонцы типа плехановского «Единства» оставались бы вне новой партии.
Четвертое: причины провала объединения в общероссийском масштабе и на местах, где социал-демократическое движение было наиболее сильно (в нашем случае — в Самаре и Саратове), заключались в том, что большевики и меньшевики принципиально по-разному смотрели на перспективы революции, Временное правительство и власть Советов. В одной партии не могли быть сторонники и противники советской власти.
Пятое: именно поэтому там, где возникли объединенные организации, они просуществовали всего несколько месяцев и развалились к октябрю 1917 года.
Список литературы Большевики и меньшевики весной 1917 г.: дискуссии об объединении (на материалах Симбирской, Самарской и Саратовской губерний)
- Бакаев А. Я. 1917 год / А. Я. Бакаев // Октябрь в Самаре. Воспоминания. — Куйбышев, 1957.
- Бешенковская М. С. От свержения царизма — к Великому Октябрю / М. С. Бешенковская // Октябрь в Самаре. Воспоминания. — Куйбышев, 1957.
- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области.
- Драбкина Ф. И. Приезд тов. Ленина и «мартовское» совещание представителей большевистских организаций / Ф. И. Драбкина // Ленин в 1917 году. Воспоминания. — Москва, 1967.
- Известия Самарского Совета рабочих депутатов.
- Ленин В. И. ПСС / В. И. Ленин. — 5-е изд. — М., 1963.
- Саратовский вестник.
- Социал-демократ (Саратов).