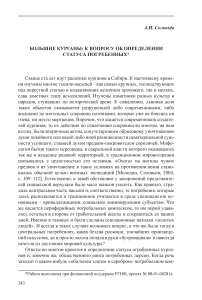Большие курганы: к вопросу об определении статуса погребенных
Автор: Соловьв А.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521553
IDR: 14521553
Текст статьи Большие курганы: к вопросу об определении статуса погребенных
Свыше ста лет идут раскопки курганов в Сибири. К настоящему времени изучены многие тысячи насыпей – как самых крупных, господствующих над окрестной степью и подавляющих величием прохожего, так и мелких, едва заметных глазу всхолмлений. Изучены памятники разных культур и народов, ступавших по исторической арене. К сожалению, львиная доля таких объектов оказывается разрушенной либо современниками, либо жадными до могильных сокровищ потомками, которые уже не боялись ни гнева, ни мести мертвецов. Впрочем, что касается современников создателей курганов, то их действия по извлечению сокровищ во многом, на наш взгляд, были вторичным актом, сопутствующим обрядовому уничтожению души покойного или какой либо иной разновидности нематериальной сущности усопшего, ставшей духом предком-покровителем сородичей. Мифология бытия такого персонажа, в сакральной власти которого оказывалось так же и владение родовой территорией, в традиционном мировоззрении связывалось с целостностью его останков. «Охота» на могилы чужих предков и их уничтожение в таких условиях на протяжении веков становилась обычной целью военных экспедиций [Молодин, Соловьев, 2004, с. 109–112]. Естественно, в такой обстановке у захоронений представителей социальной верхушки было мало шансов уцелеть. Как правило, страдала центральная часть насыпи и, соответственно, те погребения, которые здесь располагаются и традиционно считаются в среде специалистов основными – принадлежащими, социально доминирующим субъектам. Что же касается периферийных погребальных комплексов, то им порой удавалось остаться в стороне от грабительской шахты и сохраниться до наших дней. Именно в таковых и были сделаны сенсационные находки «золотых людей». И всегда в таких случаях возникает вопрос, а что же было тогда в центральных погребениях, какая бездна роскоши, тончайших произведений искусства, да и просто золота попала в руки «бугровщиков» и навсегда исчезла из достояния мировой культуры?
Ответы во многом кроются в определении статуса ограбленных курганов и, конечно же, общественного ранга погребенных персон. Когда речь заходит о каком-нибудь «обильном златом и серебром» погребальном ком- плексе под монументальным сооружением, ему автоматически присваивается высший «царский» уровень. Мы, разумеется, далеки от того, чтобы взять на себя смелость решать вопросы действительно ли это были цари империй древних скотоводов или же главы локальных территориальных военно-потестарных образований. Но в данном случае будем использовать термин «царские курганы» в качестве рабочего понятия, обозначающего погребальные сооружения элиты – социальных лидеров территориальных и родовых объединений эпохи раннего железного века, независимо от их реального общественного устройства и фактических прерогатив предводителей.
Разумеется, масштабы «царских» курганов для разных территорий и культур будут различными, как будет различаться в деталях и их внутреннее устройство. Однако, есть ли здесь нечто такое, что позволило бы их выделить в определенную группу и определить внутреннюю иерархию статуса погребенных?* Обратимся к материалам эпохи раннего железного века Южной Сибири. Несмотря на то, что её степи буквально усыпаны курганными сооружениями, таких, которые бесспорно бы ассоциировались с самым высшим статусом погребенных совсем немного. Построек, которые по визуальным признакам можно было бы связать с управленческой верхушкой явно меньше, чем должно было бы быть таких персон на исторической арене. И в этом нет ничего странного. Достаточно вспомнить, что были и «цари», и «цари царей», а в том же самом Египте были большие пирамиды «великих» фараонов и пирамиды малые. То есть существуют веские основания предполагать, что значительно меньшие сооружения так же вполне могут претендовать на звание «царских». Но прежде чем позволить себе дальнейшие рассуждения на эту тему, отметим, что мы намеренно исключаем из рассмотрения такую важнейшую характеристику погребальных памятников, как их ландшафтное позиционирование. Хотя эта тема крайне важна, но она столь многопланова, что даже беглое её изложение перерастает в самостоятельное исследование. А пока обратим внимание, что интересующие нас сооружения располагаются, как правило, на открытых участках визуально ограниченных какими либо естественными природными границами. Любопытно, что в Новосибирском Приобье или, например, в Барабе самые крупные сооружения из тех, что обнаруживаются в окрестностях могут встречаться в пойменных низинах, на участках, на которых линия горизонта оказывается неожиданно близкой. А обзор окружающего пространства ограничивается коренными террасами и отдаленными гривами. Ландщафтные характеристики Минусы,
Тувы и Алтая дают ещё большой простор для выбора таких замкнутых мест, в которых «образцовая космогония», обретала бы зримые формы, материализованные в формах окружающего рельефа, в облике которых сама природа давала человеку модель, соответствующую его космогоническим представлениям.
Одни из самых крупных среди исследованных «царских» гробниц Сибири находятся в минусинской котловине. Это – большой Салбыкский курган, раскопанный в 1954–1955 гг. С.В. Киселевым [Членова, 1992, С. 211–212, табл.91] и близкий ему по форме и размерам комплекс Барсучиха, изученный экспедицией DAI (Deut^^che^^ Archдolo g i^^che^^ In^^titut) [Parzinger, Nagler, G otlib , 2007]. Н е вдаваяс ь в детали сравнен и я их устройства, облика и датировок, обратим внимание, на важную, наш взгляд, архитектурную деталь, объединяющую между собой обе постройки. Это ассиметричное расположение могильной камеры, «сдвинутой» от геометрического центра сооружения к одной из дальних стен ограды. Как представляется, данный элемент не случаен и несет вполне определенную смысловую нагрузку, которая может быть понята при обращении к организации внутреннего пространства дворцово-храмовых и жилых ансамблей.
Во всех известных нам случаях место, занимаемое разного рода владыками, в «зоне» их официального пребывания оказывается смещенным от центра помещения – вглубь от входа, ближе к одной из его дальних стен. Расстилающееся перед ним пространство оказывается предназначенным для приближенных и слуг, составляющих двор, каковым в определенном смысле слова эта территория и является. Такую картину мы наблюдаем на планировке дворцовых комплексов Японии Китая, Кореи, Европы, Индостана и т.д. От дворцов Нара и Киото на востоке до палат московских царей государей и правительственных резиденций Версаля, Мюнхена, Мадрида на западе. Такой же принцип смещения легко заметен и в архитектуре западноевропейских замков. Без труда улавливается он и на материалах Древнего Египта, Ура, Персии. Отметим, что в соответствии с ним располагается наиболее значимая и почитаемая зона в храмовых комплексах, как это имело место и в Египте, и в планировке древнейших, восходящих первым векам нашей эры, культовых сооружениях древней Японии, в расположении алтарной части христианских соборов Европы, внутренней планировки мечетей Стамбула. В традиционных культурах народов Сибири по такому же принципу устроены и культовые места, например у обских угров, где в глубине сакрализо-ванного пространства в дальнем углу или около стенки помещения располагались изображения почитаемых духов [Гемуев, 1990, с.24, Гемуев, Сагалаев, 1986, с, 7–120].
Судя по описаниям Плано Карпини и Гильома де Рубрука, «асим-метризм» планировки был характерен и для двора монгольских владык [1957, с. 74, 76, 94, 119, 159], пытавшихся сочетать привычную плани- 384
ровку круглого пространства кочевых юрт и прямоугольного устройства дворцов покоренных китайских царств. Обратим внимание на то обстоятельство, что для круглых в плане жилищ кочевого населения Сибири присущ тот же принцип смещения наиболее почетной и социально значимой части в дальний конец обитаемого пространства. Здесь же, кстати, располагались и почитаемые предметы [Львова, Октябрьская, Сагалаев…, 1988, с.63, 64, 66]. При этом по линии, связывавшей при-входовую часть и «почетный угол» «нарастали положительные качества жилища» [Там же, с. 64]. Подчеркнем, что «минимум культурных характеристик привходового пространства» определяло и то обстоятельство, что места здесь занимали люди с более низким социальным статусом [Там же, с.66]. То есть в дальней точке опять таки смыкаются нарастающие векторы социального и сакрального. Таким образом, можно поставить вопрос о том, что рассматриваемая планировка оказывается проявлением некого архетипичного явления, имеющего глубокие исторические корни.
Вряд ли стоит доказывать изоморфность жилого и погребального сооружения, каждое из которых имело еще и определенный сакральный смысл. Хорошо вписывается в эту схему некрополь Цинь Шихуанди. Перед самой гробницей императора находится некая специально выделенная территория, на которой располагается его глиняная армия. Собственно сама гробница оказывается смещенной относительно этого обширного «двора», границы которого остаются пока неизвестными. То есть и здесь налицо рассмотренный принцип, только масштабы его иные. Отметим, что в строительстве погребальных сооружений когуресских царей реализовалась та же логика, а сами их гробницы и погребальные камеры, насколько нам это удалось наблюдать в Корее, оказываются смещенными относительно «двора».
А теперь, с позиций сказанного, обратимся к археологическим материалам Сибири и Центральной Азии. Итак, курганы Салбык и Барсучий лог, бесспорно, имеют «царский статус», но они ограбленны и мало что дали потомкам. А вот в трех других случаях – Иссык, Аржан-2, Сидоров-ка – все произошло иначе [Акишев, 1978, с. 10–15; National Geographic, 2003, с. 93; Čugun o v, Parzinger, Nag l er, 2 0 07; Матющенко, Татаурова , 1997, с. 7–13]. Грабители уничтожили центральные камеры, которые, согласно изложенному, принадлежали «дворне», и не затронули погребения самих владык – «золотых людей» из «периферийных» могил, для которых и возводились эти сооружения. На вопрос же, поставленный в начале статьи о содержимом центральных склепов, следует ответить, что в них не было ничего такого, что могло бы сравниться с блеском и пышностью находок из боковых захоронений. А крупные курганы с ассиметричным расположением погребальной камеры с наибольшим правом претендуют на высший социальный статус.