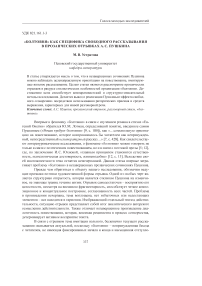"Болтовня" как специфика свободного рассказывания в прозаических отрывках А. С. Пушкина
Автор: Устратова Мария Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье утверждается мысль о том, что в незавершенных сочинениях Пушкина можно наблюдать целенаправленную ориентацию на повествование, имитирующее вольное рассказывание. Целью статьи является рассмотрение прозаических отрывков в ракурсе стилистических особенностей организации «болтовни». Достижению цели способствует компаративистский и структурно-описательный методы исследования. Делается вывод о реализации Пушкиным эффекта свободного «говорения» посредством использования риторических приемов и средств выражения, характерных для живой разговорной речи.
А. с. пушкин, прозаический отрывок, разговорный стиль, "болтовня"
Короткий адрес: https://sciup.org/146121914
IDR: 146121914 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи "Болтовня" как специфика свободного рассказывания в прозаических отрывках А. С. Пушкина
Впервые к феномену «болтовни» в связи с изучением романа в стихах «Евгений Онегин» обратился Ю. М. Лотман, определивший понятие, введенное самим Пушкиным («Роман требует болтовни» [9, с. 180]), как «…сознательную ориентацию на повествование, которое воспринималось бы читателем как непринужденный, непосредственный нелитературный рассказ…» [7, с. 428]. Как свидетельствуют литературоведческие исследования, о феномене «болтовни» можно говорить не только в связи с поэтическим повествованием, но и в связи с поэтикой прозы [5; 12], где, по заключению И. С. Юхновой, «главным принципом становится естественность, психологическая достоверность, жизнеподобие» [12, с. 13]. Вследствие своей многоаспектности тема остается неисчерпанной. Данная статья впервые затрагивает проблему «болтовни» в незавершенных прозаических сочинениях Пушкина.
Прежде чем обратиться к объекту нашего исследования, обозначим ведущие признаки поэтики художественной формы отрывка. Одной из особых черт является структурная открытость, которая является откликом Пушкина на изменчивое, не знающее границ течение жизни. Отрывок самодостаточен – восприятию его целостности, несмотря на внешнюю фрагментарность, способствует четкое композиционное и концептуальное построение, согласованность всех частей. Проблема в произведении исчерпана, тема воплощена, нет избыточных или недостающих элементов – все находится в гармонии. Изображающий отдельный эпизод действительности, ситуацию отрывок представляет собой итог аналитического авторского осмысления действительности. Также отличает незавершенное произведение диалогичность повествования, которая, вовлекая реципиента в процесс сотворчества, детерминирует активное восприятие текста.
В связи с отрывком тема имитации вольного, бесконечно текущего рассказывания оказывается актуальной, поскольку «болтовня» – непринужденная беседа с читателем, не имеющая фиксированных начала и конца и насыщенная отступле- ниями, комментариями, характерными для устной речи, – является гармоничным наполнением незавершенного произведения – открытой, предоставляющей свободу выражения, не конструируемой согласно правилам литературы формы, имманентной действительности.
Исходя из того, что понятия «болтовня», «беседа» эксплицитно связаны с категорией устного речевого акта, данная статья, во-первых, выявляет соответствие незавершенных сочинений «Участь моя решена. Я женюсь…» (1830), «Отрывок» («Не смотря на великие преимущества...») (1830), «Часто думал я…» (1833) экс-тралингвистическим критериям разговорной речи, таким как наличие собеседника, неподготовленность, раскованность общения; во-вторых, диагностирует в отрывках риторические приемы «интимизации», под которыми следует понимать «создание эффекта общения, личного контакта автора с читателем, воспроизведение непринужденного разговора, беседы между ними. Этому служит такая организация языковых элементов текста, в результате которой создается впечатление “беседности”, доверительного разговора автора с читателем» [2, с. 38–39].
Несмотря на то что понятие «болтовня» детерминирует особую речевую природу произведения, предполагающую вольное, почти импровизационное повествование, имитирующее непринужденный устный рассказ, иллюзия беседы достигается не за счет прямого копирования бытовой разговорной речи, а благодаря использованию ее стилистических приемов. Ориентация на «болтовню» отвечает мысли Пушкина о том, что язык литературного произведения (письменный), помимо характерных для него накопленных в течение столетий средств и приемов, должен включать в свой состав средства, заимствованные из живой устной речи.
Одним из ключевых принципов организации свободного «говорения» является наличие адресата, поскольку «болтовня» требует собеседника. Формально всякое художественное произведение представляет собой авторский монолог, обращенный потенциальному читателю, в терминологии М. М. Бахтина, – «неопределенному, неконкретизированному другому » [1, с. 290], который в творческом процессе апперцепции, помимо воли вовлекаясь в общение и генерируя удаленные во времени и пространстве ответные реакции, мысленные реплики, возводит текст в ранг диалога. Наррация от первого лица в таком случае определяет преюдициальное наличие оппонента «ты»; как заключает Э. Бенвенист: «Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты » [3, с. 294]. В незавершенных сочинениях повествование ведется от первого лица, но не пушкинского, а, как проницательно замечает С. Г. Бочаров, «голосов <…> других и чужих <…> которые говорят из глубины того мира, о котором рассказывают повести» [4, с. 110]. Одной из базовых причин мистификации можно считать стремление Пушкина к созданию психологической достоверности, поскольку подставное «я» решает задачу сближения мира рассказа с реальностью.
Таким образом, отрывок Пушкина, отвечая эффекту «беседности» ( я рассказываю для другого ), предполагает акт коммуникации, который организован в соответствии с определенными стилистическими приемами. Одним из элементов имитации общения, соответствующего традиционной схеме речевого акта «я (говорящий) сообщаю тебе (слушателю) о нем (предмете, лице, событии)» [10, с. 12], константный компонент которого – персонализованность, иными словами, непосредственное участие говорящих, – является вопросно-ответное построение предложений.
В отрывке «Участь моя решена. Я женюсь…» присутствуют вопросы, помогающие вовлечь читателя в разговор. Первый вопрос – риторический: «Я никогда не хлопотал о счастии – я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих – а где мне взять его» [9, с. 406]; второй вопрос-посыл служит отправной точкой в развертывании подробного отчета о повседневных занятиях героя: «Пока я не женат, что значат мои обязанности?» [Там же]. В «Отрывок» Пушкин также включает несколько риторических вопросов, которые в основном сводятся к констатации факта, что отношение «толпы» к стихотворцам несправедливо. В одном случае позиция говорящего ясна: «…что кажется может сравниться с несчастием для них неизбежным; разумеем суждения глупцов?» [Там же, с. 409] – ничто не сравнится. Второй вопрос «Каковы же должны быть невзгоды?» [Там же, с. 410], оставаясь открытым, побуждает реципиента к самостоятельному размышлению. Так на коммуникационном уровне читатель благодаря адресованному ему обращению чувствует себя включенным в мир рассказа, что способствует активизации внимания и усилению эмоционального отклика.
Другим элементом, трансформирующим бытие отрывка из монологической формы в диалогическую, выступают различного рода вводные слова и фразы личного характера, которые сигнализируют о конститутивном наличии получающего информацию адресата. Иллюстрацией могут служить объясняющие позицию автора замечания (курсив в последующих цитатах мой. – М. У.): « Дело в том , что я боялся не одного отказа» [Там же, с. 406], « Не говорю о их обыкновенном гражданском ничтожестве…» [Там же, с. 409]; « Не знаю , но последние легче, кажется, переносить» [Там же, с. 410], – с помощью которых он творит произведение здесь и сейчас, на глазах у читателя. Особо показательны случаи употребления глагола признаться в тексте «Участь моя решена. Я женюсь…» (« Признаюсь , это начинает мне надоедать» [Там же, с. 408]) и в «Отрывке» («… признаться кроме права ставить винит.<ельный> вместо родит. <ельного> падежа…» [Там же, с. 409]), лексическое значение которого – «говоря откровенно, по правде говоря» [8, с. 589] – имплицитно подразумевает доверительное отношение к собеседнику.
Кроме того, коммуникационное взаимодействие нарратора и аудитории Пушкин организует посредством использования конструкций, принадлежащих области как разговорного, так и книжного синтаксиса, требующего точности, ясности выражения, вставных конструкций, которые, нарушая ход последовательно излагаемой мысли, вносят в повествование дополнительные сведения. Пример находим в «Отрывке». В первом случае рассказчик, оценив степень осведомленности воспринимающего, вынужден прибегнуть к оговорке: «Не смотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться кроме права ставить винит.<ельный> вместо родите.<ельного> падежа после частицы не <…> мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем)…» [9, с. 409]. Второе информативно-комментирующее пояснение обстоятельств вводится нарратором в предвосхищении вопроса об употреблении слова дрянь : «Когда находила на него такая дрянь (так он называл вдохновение), то он запирался в своем кабинете и писал…» [Там же, с. 410].
Акт живого рассказывания обладает экстралингвистическим свойством неподготовленности, спонтанности, которое ярко прослеживается на синтаксическом уровне текста, заключающем в себе стилистические возможности имитации свободного общения. Из арсенала присоединительных конструкций, свойственных живой речи, отрывок Пушкина о женитьбе включает прием парцелляции – расчленения предложения на несколько самостоятельных единиц, которое в процес- се коммуникации происходит автоматически: за интригующей констатацией факта («Участь моя решена») следует уточняющая часть высказывания («Я женюсь…»), которая, вводя читателя в тему произведения, выступает средством экспрессивного выделения важного в смысловом отношении элемента, выраженного подлежащим и сказуемым, благодаря чему внимание реципиента фокусируется на субъекте речи и происходящем с ним событии.
Другой использованный Пушкиным синтаксический прием, позволяющий имитировать свободно текущую разговорную речь, следует из стихийной, ситуативной природы высказываний и заключается в свойстве эллиптичности – материальной невыраженности некоторых компонентов. «Закон экономии речевых средств» при общении находит в отрывках отражение в неполных бессоюзных конструкциях: «Заеду к нему – он очень рад…» [Там же, с. 406]; «…бросается к своему младенцу – и остается неподвижен» [Там же, с. 414].
«Устность» речи подчеркивается также пунктуационно. В прозаических отрывках Пушкин ставит многоточие, которое, например, в одном случае указывая на незавершенность высказывания, предоставляет читателю возможность подумать: «Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный…» [Там же, с. 408]; в другом случае многоточие – пауза в речи нарратора – передает эмоциональное состояние неверия в свершившееся и счастливого предвкушения долгожданного события: «Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои <…> боже мой – она… почти моя» [Там же, с. 406].
В отрывке «Участь моя решена. Я женюсь…» свидетельством неподготовленности речи выступает внезапная смена неторопливого размышления повествованием в жанре репортажа с места событий в настоящем времени («Бросаюсь в карету, скачу – вот их дом – вхожу в переднюю – уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце…» [Там же, с. 407]), которое определяет читателя на роль спутника героя. Троекратно встречающееся здесь тире на месте пропущенных членов предложения, которое в устном рассказе было бы заменено интонационной паузой, служит средством передачи динамичного темпа речи взволнованного жениха.
Особо следует выделить отличающую стиль «рассказывания» черту – непринужденность [6, с. 3], которая проявляется в раскованности, эмоциональной заряженности речи. Вольный характер пушкинской «болтовни» продиктован «при общей светскости тона заведомым снижением речи в сферу частного быта, который таким способом вытаскивается на свет со всяким домашним хламом и житейской дребеденью <…> Его прозаизмы, бытопись, тривиальность, просторечие в большой степени строились как недозволенные приемы <…> пародируя литературу голосом жизни» [11, с. 55–57]. «Голос» мелочей домашнего быта в незавершенных сочинениях звучит довольно отчетливо: «…здесь сидит семейство за самовар<ом>, там слуга метет комнаты…» [9, с. 406]; «…требую бутылки шампанского во льду – смотрю как рюмка стынет от холода…» [Там же, с. 407].
Другим стилистическим средством, снимающим рамки социальной иерархии и способствующим совпадению уровней речевого опыта автора и адресата, являются экспрессивно окрашенные, взятые из повседневной жизни выражения обиходного характера: «холопский язык», «критикуется дураками», «словом сказать». Например, общеупотребительные бытовые реплики находим дважды в отрывке «Участь моя решена. Я женюсь…»: «… боже мой – она… почти моя» [Там же, с. 406]; «… слава бог у, до Кронштата есть для меня занятие…» [Там же, с. 407]).
Кроме того, Пушкин использует чужую речь, помогающую не только разнообразить словесную ткань, но и выразительно подать информацию: живые голоса приятеля, дяди, светской дамы, звучащие в отрывке о женитьбе, усиливают эффект достоверности, правдивости.
Создает иллюзию раскованности использование Пушкиным набора выразительно-эмоциональных средств: отрывок «Участь моя решена. Я женюсь…» полон страстных восклицаний нарратора, передающих его настроение и психологическое состояние: «Жениться! Легко сказать…» [Там же, с. 406]; «Надинька, мой ангел – она моя!...» [Там же, с. 407]. Получается, что для Пушкина «забалтывание донельзя» в прозаическом отрывке – это возможность дружественного, сокровенного обмена мыслями и чувствами: «разговор как модус откровения» [13, с. 99].
Таким образом, манера «болтовни» в прозаическом отрывке специфична. Нарративно-риторическая особенность «свободного» рассказывания у Пушкина проявляется в первую очередь в авторской установке на общение с читателем, которое реализуется на коммуникативном уровне посредством наррации от первого лица, обращений, риторических вопросов, направленных на косвенное вовлечение реципиента в диалог и на создание эффекта непосредственного присутствия. Во-вторых, отличает отрывок специфика повествования, основанная на приемах и средствах устной речи: на синтаксическом уровне это включение в текст таких придающих естественность и динамичность конструкций, как парцелляция, неполные бессоюзные предложения, которые используются в разговорной речи с целью грамматической компактности, а также наличие в тексте восклицаний, экспрессивно окрашенной лексики, общеупотребительных форм бытового характера, отвечающих задушевной выразительной «болтовне». Прозаический отрывок Пушкина, имитирующий устный рассказ, оказывается вольным, адекватным жизни, не отяжеленным морализаторством повествованием, простота и непринужденность которого повышают уровень доверия читателя, способствуя интерактивности, то есть двустороннему взаимодействию нарратора и его потенциального собеседника.
Pskov State University the Department of Literature
Список литературы "Болтовня" как специфика свободного рассказывания в прозаических отрывках А. С. Пушкина
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
- Бельчиков Ю. А. Интимизация изложения//Русская речь. 1974. № 6. С. 31-42.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447 с.
- Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М.: Наука, 1974. 207 с.
- Вершинина Н. Л. Разговоры «В огромной махине вселенной» (А.С. Пушкин): к вопросу об усадебной «болтовне»//Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты. Псков: Логос, 2015. С. 245-251.
- Земская Е. А. О понятии «разговорная речь»//Русская разговорная речь. Изд-во Саратовского ун-та, 1970. С. 3-11.
- Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста//Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 393-462.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1986. 352 с.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 8. Кн. 1. Романы и повести. Путешествия. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 496 с.
- Солганик Г. Я. Стилистика текста. М.: Флинта: Наука, 2001. 253 с.
- Терц А. Прогулки с Пушкиным. М.: Глобулус: ЭНАС, 2005. 110 с.
- Юхнова И. С. Поэтика диалога и проблема общения в прозе А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.01/И. С. Юхнова; Нижегородский гос. ун-т. Н. Новгород, 2011. 41 с.
- Яусс Х. Р. К проблеме диалогического понимания//Вопросы философии. 1994. № 12. С. 94-114.