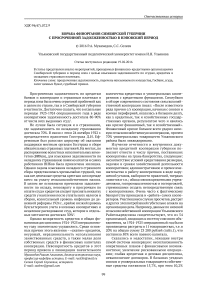Борьба финорганов Симбирской губернии с просроченной задолженностью в нэповский период
Автор: Мухамедов Рашит Алимович, Селеев Сергей Сергеевич
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3-1 т.18, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ мероприятий, проводимых финансово-кредитными организациями Симбирской губернии в период нэпа с целью взыскания задолженности по ссудам, кредитам и окладным страховым платежам.
Просроченная задолженность, перечень неизымаемого имущества, госбанк, ссуда, залог ценных бумаг, судебный приказ
Короткий адрес: https://sciup.org/148204637
IDR: 148204637 | УДК: 94(47).072.9
Текст научной статьи Борьба финорганов Симбирской губернии с просроченной задолженностью в нэповский период
Просроченная задолженность по кредитам банков и кооперации и страховым платежам в период нэпа была очень серьезной проблемой как в целом по стране, так и в Симбирской губернии в частности. Достаточно сказать, что в отдельные периоды 1923-1924 операционного года в ряде кооперативов задолженность достигала 80-90% от числа всех выданных ссуд1.
Не лучше была ситуация и в страховании, где задолженность по окладному страхованию достигала 70%. В связи с этим 24 октября 1922 г. председателем правления Госстраха Д.И. Ефремовым был разослан циркуляр об оказании поддержки местным органам Госстраха в сборе обязательных страховых платежей. На местах, по распоряжению волостных исполнительных комитетов (ВИКов), для взыскания задолженности по окладному страхованию помимо агентов и самих работников ВИКов была привлечена милиция. Однако задача взыскания окладного страхового сбора представлялась чрезвычайно трудной, так как все денежные средства крестьян шли прежде всего на уплату сельскохозяйственного налога. В целом же основными причинами задолженности по окладу, невозврату и просрочкам по оплате ссуд и кредитов следует признать нехватку средств у населения после уплаты всех налогов и сборов, колоссальный уровень инфляции до денежной реформы 1924 г., крайне низкий уровень бухгалтерского учета в низовых кооперативах и нецелевое расходование ссуд, которое в отдельных местностях достигало 30%2.
количества кредитных и универсальных кооперативов с кредитными функциями. Симгубком в обзоре современного состояния сельскохозяйственной кооперации писал: «После известного ряда причин с/х кооперация, начиная с союзов и кончая периферией, оказалась в большом долгу, как у кредитных, так и хозяйственных государственных органов, результатом чего и явились как кризис финансовый, так и хозяйственный». Финансовый кризис больнее всего ударил низовую сельскохозяйственную кооперацию, причем 70% универсальных товариществ Ульяновского района было ликвидировано.
Изучение отчетности и внутренних документов кредитной кооперации губернии позволяет отнести к числу причин, поставивших кооперативы на грань банкротства, следующие: несоответствие условий кредитования размерам, задачам и срокам хозяйственной деятельности кооперативов; административное и прочее вмешательство в работу кооперативов в виде нарушений уставов, выборности правлений, твердых лимитов и т.п.; обход союзов кредитными учреждениями, госпромышленностью и госторговлей, стремившими создать непосредственную связь с кооперативами. Очень часто к фактическому банкротству приводила и «работа» самих кооператоров. Участившиеся случаи просчетов, растрат и других злоупотреблений губительно влияли на организацию дела. Например, данные по низовой сельскохозяйственной кооперации Ульяновского Райселькредсоюза свидетельствуют, что из 54 организаций, входящих в систему союзного объединения, за 1924-1925 операционный год были произведены растраты в 11 товариществах, т.е. в 20% на общую сумму 23 200 рублей (табл.1), что составило 50% всего паевого капитала.
Сказались и недостатки, лежащие внутри самой системы кооперации: несогласованность оперативных планов с финансовыми возможностями; увлечение рискованными операциями; слабая кредитная и деловая дисциплина, невыполнение договоров. В балансах уездных союзов и универсальных товариществ собственные средства составляли 15,7%, при этом 10,2%
Таблица 1. Растраты и хищения по Ульяновскому Райселькредсоюзу*
|
Период |
Сумма растрат, р. |
Количество растрат |
Число растратчиков |
Дел передано в суд |
|
1924-1925 операц. год |
23 200,33 |
11 |
21 |
9 |
|
I полутод.1925-1926 г. |
3180,90 |
7 |
7 |
4 |
* Составлено по: Мухамедов Р.А . Кредитная и ссудосберегательная кооперация в средневолжской деревне во второй половине XIX в. - 1920-е годы. Дисс. … докт. ист. наук. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Ульяновск, 2010
представляли собой недвижимое имущество, следовательно, свободного капитала, участвующего в обороте, оставалось 5,5%3. Все это явилось не следствием того, что кооперация прожила какие-то средства, а свидетельствовало о том, что возникновение кооперативных организаций не носило того экономически-нормального порядка, который необходим при создании такого вида организаций. Кооперация губернии ниоткуда не получала средств в основной капитал, а лишь занималась распределением. Вследствие этого кооперация от снижения цен и сжатия кредитов пострадала больше других. Чтобы хоть как-то исправить положение, руководством губернии и руководителями кооперативных союзов предлагалось пересмотреть политику кредитования универсальных товариществ, «по возможности заменяя краткосрочные кредиты по учету векселей более долгосрочными ссудами»4.
Не в последнюю очередь на плачевной ситуации части кооперативов сказалось и то, что в ряде случаев политическая воля превалировала над экономическим состоянием организаций. Наделав долгов, они могли «списать» их (получить кредит из фонда санирования, рассрочку выплат и т.д.), мотивируя это «политической важностью деятельности» в своем районе. Вышесказанное может быть проиллюстрировано материалами докладной записки о прекращении с 26 февраля 1925 г. своей деятельности сельскохозяйственного кредитного товарищества «Красный Волгарь». К февралю этого года оно имело совокупный долг по векселям 8 290 рублей и задолженность разным лицам и учреждениям 1643,03 рубля, при этом паев было внесено только 50%5. Райселькредсоюз отказал в отсрочке платежей ввиду своего тяжелого финансового положения. Сельхозбанк также отказал в отсрочке платежей, за исключением выданных ссуд по «лошадным» операциям. При этом правление общества ходатайствовало перед губкомом о сохранении общества, предоставлении отсрочек по платежам и предоставлении новых кредитов: «В целях сохранения товарищества «Красный Волгарь» по политическим соображениям считаем таковой оставить необходимым, почему и просим РКП(б) добиться через Губком об оставлении указанного выше товарищества». В конечном итоге, вопреки экономическим условиям, общество было сохранено.
Активная борьба с просроченной задолженностью началась в 1924-1925 операционном году, когда общая задолженность по ссудам кооперации в губернии составила более 2 млрд. рублей6, а не-взысканные задолженности за 1923-1924 гг. по обязательному окладному страхованию достигли 25-27% от суммы годового оборота Симбирской конторы Госстраха. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1924 г. «О предоставлении права бесспорного взыскания по ссудам, выдаваемым кредитными и ссудо-сберегательными товарище-ствами»7 «учреждениям мелкого кредита» было предоставлено право взыскания с должников и их поручителей просрочек в порядке судебных приказов. Для этого правлению кооператива нужно было предоставить документ о кредите и заявление о взыскании долга «в порядке судебного приказа».
В то же время сельскохозяйственному банку было отказано во взыскании по судебному приказу, поэтому рост задолженности в этом кредитном учреждении продолжился. И, несмотря на меры по укреплению финансовой дисциплины, предпринимаемые в течение 19241925 операционного года, на 1 ноября 1925 г. сумма задолженности клиентов перед обществом сельскохозяйственного кредита (проводник кредитов сельскохозяйственного банка в губернии) выросла почти до 80000 рублей и продолжала возрастать с каждым днем (табл. 2). Ко всем «неисправным заемщикам» предъявлялись самые строгие требования немедленной уплаты долгов, «вплоть до взыскания через суд».
Значительная задолженность за сельскохозяйственными товариществами, госорганами, коллективами и единоличниками объясняется тем, что в начале развития ссудных операций, за отсутствием низовой сети, общество проводило кредиты как через посреднические пункты, так и, главным образом, через сельскохозяйственные товарищества, коллективы, союзы и непосредственно кредитовало единоличников. И по итогам работы постепенно из числа добросовестных товариществ отобрало более или менее здоровую низовую сеть для дальнейшей кредитной работы. Кроме того, увеличение процента просрочек по отношению к выданным ссудам на 1 октября 1926 г. объяснялось наступлением срока возврата главной массы ссуд, приуроченных к началу полной реализации урожая, т.е. к наивысшей денежности сельского хозяйства при нормальных условиях его ведения, но не выполненного заемщиками по не зависящим от них причинам, оттянувшим реали-
Таблица 2 . Просроченные ссуды низовой сети Ульяновского общества сельскохозяйственного кредита*
|
Период |
Остатки выданных ссуд, руб. |
Сумма просроченных ссуд, руб. |
% по отношению к выданным |
|
На 1.10 25 г. |
291645 |
24762 |
8,5 |
|
На 1.10 26 г. |
246000 |
74600 |
30,4 |
* Источник: ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.1081. Л.115
зацию хлеба на неопределенный период времени8.
В то же время часть вины за большую задолженность по окладу Ульяновская контора Госстраха возлагала на местную власть. С 5 октября 1926 г. были приняты меры к усилению поступлений и ликвидации недоимочности прежних лет. Через соответствующие исполкомы выносились постановления об усилении работы ВИКами, в частности, говорилось: «если все внимание Волисполкомов и населения сосредоточено теперь на взыскании и уплате сельхозналога, то взыскание страхового оклада и недоимки почти не двигается». Из 1079933 рублей оклада и недоимок по губернии на 1 декабря было уплачено всего 97748 рублей9.
Взыскание просроченной задолженности осуществлялось по закону с помощью исполнительных листов, изъятия имущества должника и реализации его на аукционе. Однако получить что-то от должника даже в судебном порядке до 1926 г. было затруднительно. Дело в том, что закрытый перечень неизымаемого имущества был настолько велик, что у многих заемщиков попросту нечего было изымать. Согласно статье 271 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, вступившего в силу с 1 октября 1923 года, взысканию с должника не подлежали: «а) необходимые для него и для находящихся на его иждивении лиц платья, белья, обуви и предметов домашнего обихода; б) орудия производства и инструментов, необходимых для профессионального занятия, ремесла или мелкого кустарного промысла должника; в) необходимые орудия сельского хозяйства, одной коровы, одной лошади или заменяющего их другого вида скота с необходимым на три месяца количеством корма; г) семена в количестве, необходимом для предстоящего посева обрабатываемой должником земли, и д) неснятый урожай»10. Пожалуй, лишь отдельные середняки и зажиточные крестьяне имели имущество свыше этого списка. По словам В.М. Молотова, сказанным во время доклада на XIV съезде ВКП(б), лишь 93% крестьян имели 1-2 лошади, и 9% имели в хозяйстве более 2 коров11.
В ряде случаев, ссылаясь на 271 статью ГПК РСФСР заемщики не желали платить ссудные долги вообще. Причем наличие этой статьи не позволяло обществу принять к злостным неплательщикам решительные меры воздействия. Наоборот, в распоряжении общества имелся целый ряд актов судебных исполнителей и волостной, и сельской милиции, составленных со ссылкой на 271 статью, о несостоятельности заемщиков и невозможности произвести взыскание ссуд. Это обстоятельство в свою очередь отрицательно действовало на кредитную дисциплину других односельчан-заемщиков, и периодически появлялись случаи полного отказа заемщиков от платежей ссуд и даже отказе переписки на новые сроки долговых документов в целях дачи отсрочек.
Впоследствии, в октябре 1924 года, этот перечень неизымаемого имущества был расширен – изъятию не подлежали паевые взносы должника в потребительское общество, «если взносы эти поступили в распоряжение последнего». В декабре того же года и этот пункт был скорректирован – добавились уже уплаченные взносы в сельскохозяйственные кооперативы. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 13 июня 1925 года перечень вновь был дополнен – теперь нельзя было взыскивать страховое вознаграждение по договору страхования, «причитающиеся страхователям по обязательному окладному страхованию, при условии обращения этих сумм исключительно на восстановление погибшего имущества»12.
Борьба с просрочками стояла на повестке дня и в 1925-1926 операционном году — перед властями на местах была поставлена задача «во что бы то ни стало ликвидировать старые долги». С целью быстрого взыскания задолженности власти на местах стали использовать «ускоренную опись» имущества должника и последующую его продажу на торгах либо «перекладывание» задолженности бедняков по налогам на зажиточных крестьян. В это же время от руководителей местных отделений Госбанка и контор Госстраха стали поступать телеграммы с жалобами на то, что местные органы НКВД, имея на руках исполнительные листы, не могут взыскать имущество должников, защищенное законом. Только тогда уже упомянутая статья Уголовно-процессуального кодекса была дополнена примечанием, позволявшим обращать на взыскание имущество, которое должник приобрел на средства, взятые в кредит. «Исключение, предусмотренное в пункте «в» настоящей статьи, не распространяется на перечисленные в этом пункте предметы, если таковые приобретены на ссуды» – гласила новая редакция закона от 1926 года. Изменение законодательства в части взыскания имущества и другие чисто административные меры позволили к середине 1927 г. избавиться от просроченной задолженности в кредитовании, страховании и налоговых платежах.
Дальнейшая борьба с просрочками пошла по пути дискриминации на основании классовой принадлежности. Согласно циркулярному распоряжению НКФ РСФСР от 12 ноября 1929 г. по вопросу о досрочном взыскании ссуд с кулацких и зажиточных групп деревни, Ульяновский райисполком обращал внимание товариществ на важность проводимой кампании по взысканию платежей на селе и «особенно с кулацко-зажиточной верхушки деревни»13. Якобы в результате «искривления классовой линии» в кредитной работе некоторых сельскохозяйственных кредитных товариществ образовалась задолженность по выданным системой сельскохозяйственного кредита ссудам, числящимся за зажиточными и кулаками. По постановлению государственных органов необходимо было ликвидировать всю задолженность в самый кратчайший срок. Взысканию подлежали все ссуды, имеющиеся за кулацкими и зажиточными слоями деревни, независимо от характера и источников их средств, за счет которых указанные ссуды были выданы, а также сроков выданных ссуд. При этом кулацкими хозяйствами признавались все крестьянские хозяйства, облагаемые сельскохозяйственным налогом в индивидуальном порядке. К зажиточным хозяйствам, с которых производилось досрочное взыскание задолженности, относились те крестьянские хозяйства, которые уплачивали сельскохозяйственный налог с процентной надбавкой в 7%. К злостным должникам необходимо было применять «меры взыскания через судебные органы, добиваясь быстрого рассмотрения таких дел в судебных органах»14.
Как уже было сказано, основными потребителями кредитов сельскохозяйственной кредитной кооперации к концу 1920-х гг. являлись бедняцкие и середняцкие слои деревни. Начавшаяся коллективизация привела к потере кооперацией своей основной клиентуры и последующей реорганизации этих кредитных товариществ. Перестройка работы кооперативных органов регламентировалась постановлением ЭКОСО РСФСР от 15 октября 1929 г. Окружной комиссар П.В. Шулькин писал в телеграмме Ульяновскому райкому 20 сентября 1929 г.: «Реорганизация глубинных кредитных товариществ будет проведена не ранее как через шесть-восемь месяцев»15.
Подводя итоги, можно отметить, что борьба с задолженностью финорганами Симбирской губернии совместно с властями на местах и милицией велась на всем протяжении 1920-х гг. Ликвидации задолженности способствовало ужесточение законодательства, а именно статьи 271 ГПК РСФСР, регламентирующей перечень неизымаемого имущества. К концу нэповского периода взыскание долгов и действующих ссуд с зажиточно-кулацкой части деревни было осуществлено административными методами, не согласующимися с действовавшим на тот момент законодательством.
Список литературы Борьба финорганов Симбирской губернии с просроченной задолженностью в нэповский период
- Мухамедов Р.А. Кредитная кооперация в период Первой мировой войны (на материалах Среднего Поволжья)//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2008. №2. С.138-140.
- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (далее -ГАНИУО). Ф.1. Оп.1. Д.497. Л.35.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.927. Л.146.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.907. Л.147.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.958. Л.75.
- Мухамедов Р.А. Кредитная и ссудно-сберегательная кооперация Среднего Поволжья в период проведения политики «военного коммунизма» (1918-1920 гг.).//Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т.150. №1. С.140-147.
- Мухамедов Р.А. Торгово-посредническая деятельность кооперативов Среднего Поволжья (1901-1917 гг.).//Исторические науки. 2007, №5. С.25-28.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.1081. Л.114-115.
- Пролетарский путь. 1926. 11 декабря. №284. С.2.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.1076. Л.17-18.
- Мухамедов Р.А. Кредитная и ссудосберегательная кооперация в средневолжской деревне во второй половине XIX в. -1920-е годы. Диссертация … доктора исторических наук/Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Ульяновск, 2010.
- Мухамедов Р.А. Роль государства в деятельности крестьянской кредитно-финансовой кооперации (конец XIX -начало ХХ века)//Симбирский научный вестник. 2012. №1 (7). С.26-29.
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.1083. Л.127.
- Мухамедов Р.А., Карцев С.В. Кооперативно-государственная система взаимоотношений в средневолжской деревне//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т.15. №5-1. С.43-47.
- ГАНИУО. Ф.13. Оп.1. Д.844. Л. 74.
- Мухамедов Р.А. Кредитная и ссудосберегательная кооперация в средневолжской деревне во второй половине XIX в. -1920-е годы. Дисс. … докт. ист. наук. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Ульяновск, 2010
- ГАНИУО. Ф.1. Оп.1. Д.1081. Л.115