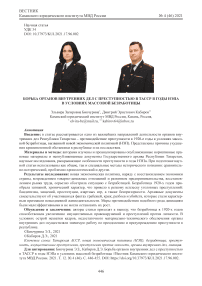Борьба органов внутренних дел с преступностью в ТАССР в годы нэпа в условиях массовой безработицы
Автор: Бикчурина Эльвира Загировна, Кабиров Дмитрий Эрнстович
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Теория и история права и государства
Статья в выпуске: 4 (46) т.12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается одно из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел Республики Татарстан - противодействие преступности в 1920-е годы в условиях массовой безработицы, вызванной новой экономической политикой (НЭП). Представлены причины ухудшения криминогенной обстановки в республике и их последствия. Материалы и методы: авторами изучены и проанализированы опубликованные нормативные правовые материалы и неопубликованные документы Государственного архива Республики Татарстан, научные исследования, раскрывающие особенности преступности в годы НЭПа. При подготовке научной статьи использованы как общие, так и специальные методы исторического познания: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и другие. Результаты исследования: новая экономическая политика, наряду с восстановлением экономики страны, возрождением товарно-денежных отношений и развитием предпринимательства, восстановлением рынка труда, серьезно обострила ситуацию с безработицей. Безработица 1920-х годов приобрела затяжной, хронический характер, что привело к резкому всплеску уголовных преступлений: бандитизма, хищений, проституции, азартных игр, а также беспризорности. Архивные документы свидетельствуют об участившихся фактах грабежей, краж, разбоев и убийств, которые стали характерным признаком повседневной жизнедеятельности. Меры противодействия подобного рода девиациям были малоэффективными и не могли остановить их рост. Обсуждение и заключения: авторы статьи приходят к выводу, что безработица в 1920-х годов способствовала увеличению имущественных правонарушений и преступлений против личности. В условиях острой нехватки кадров, недостаточного материально-технического обеспечения органы внутренних дел осуществляли значимую работу по преодолению и предупреждению преступности в республике.
Татарская асср, новая экономическая политика (нэп), безработица, преступность, имущественные преступления, преступления против личности, органы внутренних дел, милиция
Короткий адрес: https://sciup.org/142231602
IDR: 142231602 | УДК: 34 | DOI: 10.37973/KUI.2021.17.96.002
Текст научной статьи Борьба органов внутренних дел с преступностью в ТАССР в годы нэпа в условиях массовой безработицы
Любые потрясения в социально-экономической и политической сферах жизни общества приводят к определенным кризисным явлениям. Одним из последствий подобных кризисов становится рост безработицы, что приводит к социальному напряжению, снижению уровня жизни, а также увеличению преступности. С целью минимизации экономических и социальных потрясений государство проводит политику поддержки рынка труда и предпринимательства, защиты уязвимых слоев населения. В связи с этим большое значение имеет изучение исторического опыта
1 Далее - «НЭП».
экономических и социальных преобразований в годы НЭПа, противодействия государственных органов внутренних дел волне преступности, что позволит определить способы преодоления современных кризисов, а также определить тенденции развития современного российского общества.
Сложный и противоречивый период перехода от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» изменил все сферы жизни советского общества. По своей сути новая экономическая политика1 не являлась возвратом от «коммунизма» к «капитализму», от жесткого государственного контроля к полному рыночному хозяйствованию. Тем не менее новый курс был направлен на: развитие гражданско-правового регулирования товарно-денежных отношений, восстановление частного предпринимательства, привлечение иностранного капитала в форме концессий. В свою очередь, «реанимация рынка» способствовала развитию такого негативного явления, как безработица.
Особенностью безработицы в 1920-е годы стал ее затяжной характер. Высокий уровень безработицы сохранялся до полного «свертывания» НЭПа и провоцировал социальную нестабильность в обществе. Организовывали борьбу с негативными общественными явлениями государственные и партийные органы. Основная роль в этой тяжелой борьбе принадлежала правоохранительным органам, действовавшим в условиях острой нехватки квалифицированных кадров и скудного материально-технического обеспечения.
Обзор литературы
Рассматривая историографию нашей темы, необходимо подчеркнуть, что проблемы безработицы и преступности в годы НЭПа являются самостоятельными объектами исследования. Тем не менее раскрыть взаимосвязь безработицы и преступности попытались еще советские исследователи в 1920-е годы. Серьезный вклад в разработку данной проблематики внесли А.А. Герцензон, М.Н. Гернет, В.И. Куфаев [1, 2, 3, 4]. Особую ценность представляют работы, посвященные отдельным видам преступлений. Авторы приводят аргументированные выводы по общей криминальной ситуации в стране, выявлению причин роста преступности. Кроме того, представлен анализ пенитенциарной и судебной политики 1920-х годов [5, 6, 7]. На региональном уровне вопросы преступности и законности были изучены А. Бажановым, Г. Богаутдиновым. Исследования, написанные буквально по горячим следам, воссоздают обстановку тех лет. Здесь содержится богатый фактический материал [8, 9]. Но в то же время следует учитывать политическую «окраску» указанных работ.
В период индустриализации и коллективизации проблемы безработицы практически потеряли свою актуальность. Что же касается темы борьбы с преступностью, следует подчеркнуть многогранность исследований указанного периода. Именно в это время были изучены теоретические проблемы развития преступности в Советском государстве, становления правоохранительной системы и органов юстиции.
В трудах 1960-1980 годов расширяется проблематика исследований и одновременно с этим повышается их научно-теоретический уровень. Попытка всестороннего анализа процесса ликвидации безработицы в 1926-1931 годы была представлена в работе А.С. Сычевой. Автор рассматривает конкретные пути преодоления безработицы в Советском государстве. [10, с. 2]. Ряд обобщенных фундаментальных трудов, посвященных вопросам борьбы с преступностью, был представлен учеными-юристами [11, 12, 13]. Так, И.И. Карпец изучил вопросы о роли и месте личности в генезисе преступности, указал на различие между понятиями «преступность» и «отдельным преступлением». При этом следует учитывать неотъемлемый признак исследований советского периода – наличие официальной идеологии. Выводы авторов не могли противоречить «линии партии», которая диктовала свои принципы научного изыскания. Согласно указанной «линии» только «социализм мог создать реальные предпосылки для снижения, а в дальнейшем и для ликвидации преступности» [11, с. 6].
Современная историография представлена более объективными исследованиями. В работах ученых-юристов проблема преступности рассмотрена и в исторической ретроспективе. В контексте социальной истории все больше внимания уделяется проблемам повседневности, в том числе девиантности, что является предметом изучения историков на примере регионов [14, 15, 16].
Отдельные аспекты проблемы безработицы и преступности в 1920-е годы в Республике Татарстан представлены в научных публикациях М.Ю. Гребенкина, А.В. Морозова и др. В них на основе рассекреченных архивных документов проанализированы некоторые вопросы социально-экономического развития республики, а также преступности в годы НЭПа [17, 18]. Указанная тема нашла частичное отражение в общих трудах по истории [19, 20]. При этом специального исследования о роли республиканских правоохранительных органов в борьбе с преступностью в годы НЭПа и в условиях массовой безработицы нет. Данное обстоятельство обусловливает новизну проведенного исследования.
Материалы и методы
Эмпирической базой статьи явился комплекс опубликованных и неопубликованных источников. Среди опубликованных материалов особое место заняли нормативные правовые акты 1920-х гг.1 Важный фактический материал содержала периодическая печать 1920-х годов2. Анализ публикаций позволил оценить общую картину социально-экономического развития республики. При изучении и анализе публикаций учитывалась идеологизи-рованность и пропагандистская направленность большинства из них.Основной фактический материал, раскрывающий уровень безработицы в ТАССР, а также деятельность партийных и государственных органов по устранению последствий безработицы, деятельность органов НКВД республики в борьбе с преступностью, был получен из неопубликованных источников Государственного архива Республики Татарстан.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод исторического познания, позволивший авторам объективно и системно раскрыть заявленную тему. Кроме того, применялись частные исторические методы: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и другие.
Результаты исследования
Решение о введении новой экономической политики было принято на X съезде РКП(б) в марте 1921 года. НЭП был призван заменить политику «военного коммунизма» и обозначил «переход» от жесткой централизованной модели экономики к более мягкой, приближенной к рыночной. Разрешение частного предпринимательства, допуск иностранного капитала изменили социально-экономическую ситуацию в стране и возродили рынок труда. Определенные свободы производителям, разные формы собственности улучшили экономическую конъюнктуру страны. При этом система хозрасчета1 привела к закрытию убыточных предприятий, следовательно, сокращению штатов и текучести кадров.Это способствовало возрождению и росту безработицы. Вплоть до полного «свертывания» НЭПа предложение рабочей силы превосходило спрос на неё.
В Татарской АССР к 1923 году повсеместно наблюдалось сокращение производства и увеличение безработицы. Причем рост безработицы происходил как по причине закрытия промышленных предприятий и государственных учреждений, так и в связи с реорганизациями штатов в действующих.
Так, к 1 декабря 1923 г. Народным комиссариатом труда ТАССР было зарегистрировано 15833 безработных, из них 67,5% являлись неквалифицированные рабочие2. В 1924 г. количество безработных увеличилось на 47% и составило уже 23279 человек [8, с.5].
Основная масса безработных сосредоточилась в промышленном центре республики – городе Ка-зани.Причинами роста безработицы стали:
-
1) массовый приток сельского населения в город;
-
2) демобилизация солдат Красной Армии, основная часть которых обладала лишь военной квалификацией, затруднявшей поиск работы на «гражданских» должностях;
-
3) упадок промышленности и сокращение управленческих кадров в госучреждениях;
-
4) выход на рынок труда подростков – выпускников школ и тех, кто ранее не работал по найму. Так, к середине 1924 г. безработица среди подростков составляла около 10% от общего количества безработных3;
-
5) увеличение предложения женского труда. В условиях перехода промышленности на хозрасчет женщины, активно вовлекавшиеся в производство в годы гражданской войны и «военного коммунизма», имевшие более низкую, по сравнению с мужчинами, квалификацию, стали неконкурен-тоспособными.Согласно архивным данным, на 1 апреля 1926 года в ТАССР насчитывалось 6096 безработных женщин, а 1 февраля 1927 года уже – 91804, что составляло 51% от общего количества безработных, находящихся на учете Казанской биржи труда.
Для преодоления кризиса и снижения напряженности в социальной сфере Народным комиссариатом труда ТАССР были предприняты определённые меры. Во-первых, из средств фондов государственного социального страхования и профсоюзных организаций лицам, оставшимся без работы и средств существования, выплачивалось денежное пособие. Так, к 1 апреля 1927 г. в республике пособие было выплачено 7301 безработному, из них в Казани – 56865. Во-вторых, организовывались коллективы безработных, в которых решались вопросы трудоустройства, повышения квалификации и переобучения определенных групп безработных. В результате этих мер во второй половине 1920-х гг. показатели безработицы в республике снизились на 31%. В начале 1928 г. в республике насчитывалось 16084 безработных [8, с.5].
Следствием массовой безработицы стали интенсивный рост городского населения за счет миграционных процессов, нищета, детская бес- призорность, социальная необустроенность и неопределенность в грядущем дне. Все это способствовало ухудшению криминогенной обстановки и росту преступности в республике. Так, в декабре 1921 г. по ТАССР было зафиксировано 946, в январе 1922 г. – 973, а в феврале уже – 2312 пре-ступлений1.
Необходимо отметить, что потеря работы не делала человека потенциальным преступником. Однако ярким примером, характеризующим настроение в обществе, является вопиющий случай, описанный в региональной газете «Красная Татария». История рядового рабочего из города Чистополя, который потерял постоянную работу. На этой почве в семье возникали постоянные «перебранки», которые закончились убийством жены ударом топора2.
Уголовное законодательство 1920-х гг. выделяло следующие виды преступлений. Во-первых, государственные преступления. К ним относились вооруженное восстание, шпионаж, контрреволюционная агитация и пропаганда и др. Во-вторых, преступления против порядка управления: массовые беспорядки и бандитизм, оскорбление и неуважение власти, присвоение власти и др. В-третьих, преступления против личности: убийства, телесные повреждения, побои, хулиганство, изнасилование, оскорбление, клевета и др. В-четвертых, имущественные преступления: разбой, грабеж, кража, мошенничество, присвоение, растрата, подлог и др. В-пятых, должностные преступления: злоупотребление властью, взятки и другие преступления при исполнении служебных обязанностей. В-шестых, воинские преступления. В отдельные группы выделялись хозяйственные преступления, нарушение правил отделения церкви от государства, нарушение правил охраны народного здравия [8, с.7]. Кроме вышеуказанных видов правонарушений, в годы НЭПа правоохранительные органы вели активную борьбу с проституцией, самогоновареньем, азартными играми, также получившими широкое распространение в Татарской АССР.
Наиболее распространёнными в годы НЭПа в республике являлись имущественные преступления и преступления против личности, т.е. именно те, которые являлись прямым следствием роста безработицы и ухудшения экономического положения населения. Широко распространены были:
растраты, взяточничество, разного рода хищения. По данным архивных документов, грабежи, кражи и хищение скота составляли основной массив правонарушений, связанных с присвоением чужого имущества. Так, из 2312 совершенных в феврале 1922 года преступлений 1112 приходилось на кражи и грабежи или 48% от общего числа. В июне того же года кражи и грабежи составляли уже 52% – 710 случаев из 1367 зарегистрированных имущественных преступлений3.
Согласно данным А. Бажанова, по Татарской АССР наблюдался рост числа осужденных за имущественные преступления. В 1924 г. осужде-ны3462 человека, в 1926 г. –3984, а в 1928 г. уже 4241, что в процентном соотношении к 1924 году составляло 115,7% и 122,5% [8, с.8].
Кражи и грабежи совершались повсеместно: на улице, в частных квартирах, домах, в госучреждениях и на предприятиях. Органами милиции города Казани в день фиксировалось до несколько десятков квартирных краж. Местная печать 1920-х годов изобилует подобной информацией. С целью перепродажи из квартир похищали дорогие вещи, одежду и прочее имущество. В 1924 году в Казани орудовала преступная группа «взломщиков-усыпителей», совершавшая кражи с использованием усыпляющих наркотиков. Проникнув в жилье через окна, грабители усыпляли хозяев и спокойно похищали имущество. Все члены группы были задержаны и понесли наказание4. Также объектом преступников-воров стали заготовительные конторы, склады, государственные и частные магазины. В том же 1924 году были совершены крупные ограбления кожевенного склада фабрики имени «Ленина», интендантского склада5 и ликвидирована банда из 15 человек, занимавшаяся грабежами в продовольственных магазинах в городе Казани6.
Как известно, 1921-1922 гг. – это годы массового голода в Поволжье. Голод привел к сокращению продолжительности жизни, росту инфекционных заболеваний, а также массовой гибели населения. Кроме того, в указанный период участились кражи и грабежи. Целью грабителей являлись продукты питания, зерно и скот. В случае поимки грабителей крестьяне «расправлялись с грабителями самосудом» [25, с. 561]. Крупная кража зерна в мае 1921 года в Мензелинском кантоне республики стала известна на всю страну. В
Байсаровском ссыпном пункте было расхищено 6 тысяч пудов хлеба, что привело к массовым беспорядкам во всем кантоне1. Для ликвидации беспорядков был создан специальный оперативный штаб в количестве 50 военнослужащих2.
Большой урон, прежде всего сельскому хозяйству, приносила кража скота, в частности конокрадство. Увод лошадей совершался при самых разнообразных обстоятельствах, но чаще всего в летний период с подножного корма, иногда – ночью с крестьянских дворов. Как правило, лошадей крали в удаленных от центра местностях с последующим их переправлением в соседние кантоны или регионы, что значительно осложняло поиск. В целом раскрываемость краж лошадей в республике не превышала 30-40%. Так, в течение 1923 г. на территории Тетюшского и Лаишевско-го районов ТАССР орудовала вооруженная шайка конокрадов, имевшая секретный перевоз через реку Волга ниже села Богородское. У шайки была база на правом берегу реки, где она долгое время укрывалась от правоохранительных органов3. Несмотря на объективные трудности в борьбе с конокрадством, в местной газете «Красная Татария» практически еженедельно в течение 1920-х годов появлялись заметки о судебном процессе над конокрадами. В номере от 11 мая 1924 года сообщалось о суде над конокрадами Гимастиновым и Темиргалиевым, которые долгое время совершали кражи скота в Елабужском кантоне. В заметке от 10 июня 1924 года опубликована информация о приговоре суда 23-х летнему конокраду Ахмат-шину из Свияжского кантона. А в 1925 – 1926 гг. в Татарстане была ликвидирована банда известного конокрада Шакура Рахимова, приговор был вынесен в отношении 78 человек, в том числе 30 чиновников-пособников, 14 преступников были расстреляны [19, с. 59]. В целях борьбы с активно распространившимся конокрадством было принято решение об обязательном наличии удостоверения на право собственности продавца при продаже лошадей, а также мяса скота на рынках городов и волостей республики. Проверку наличия данного удостоверения осуществляли сотрудники милиции.
Еще одной угрозой для населения стали бандитские группировки, численность которых доходила до нескольких десятков человек. Так, в городе Буинске несколько лет бесчинствовала преступная группа, совершавшая вооруженные нападения, ограбления и убийства. Во главе бандитов стоял бывший служащий из Волгограда Волков Н.И., имевший большой «преступный опыт». При аресте летом 1923 года участников группы сотрудники уголовного розыска изъяли 6 револьверов системы «Наган». Тогда же были задержаны 5 бандитов в селе Сухая Река Арского кантона, совершившие целый ряд убийств и вооруженные ограбления4. Или другой пример. В Свияжском кантоне Татарской республики в течение 1926 года действовала группа вооруженных грабителей церквей. При этом, похитив церковное имущество, бандиты бесследно скрывались, не оставляя никаких следов. Лишь в ноябре 1926 года сотрудникам уголовного розыска удалось задержать преступников.
Подъему преступности способствовало и наличие большого количества оружия у населения, оставшегося после Гражданской войны. Так, в июне 1924 года правоохранительными органами был обнаружен «склад оружия» в частной квартире в Казани, где хранились два браунинга с патронами и два ружья центрального боя 14 калибра5.
Серьезной проблемой в 1920-е годы стало хулиганство. Данное асоциальное явление приобретает постоянный характер. Нападкам хулиганов как правило, подвергались незащищенные слои населения: женщины, старики, дети. Согласно статистическим данным, за день по городу Казани органами милиции оформлялось по 3-5 протоколов за хулиганство.
В соответствии с УК РСФСР 1922 года хулиганством считались озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия, которое каралось всего лишь принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года. Незначительность наказания способствовала росту данного вида преступления. При этом хулиганы не ограничивались лишь нецензурной бранью, а, пользуясь безнаказанностью, приставали к прохожим, затевали кулачные бои, драки, стрельбу из огнестрельного оружия и т.д.
Вопросу борьбы с хулиганством было посвящено специальное межведомственное совещание при НКВД ТАССР от 26 сентября 1926 г. Здесь отмечался рост хулиганства среди молодежи как в городе, так и в сельской местности. В своем докладе нарком внутренних дел республики Петров Н.В. обозначил периодические случаи избиения милиционеров, «заступничества» со стороны толпы. Для борьбы с данным видом правонарушений предлагалось активно привлекать общественные организации в лице сельских исполнителей и дворников в городах.
Для противодействия хулиганским проявлениям правоохранительные органы республики усилили административный надзор в области продажи алкогольной продукции, ограничили выдачу разрешений на ношение и хранение оружия. Кроме того, в Казани была организована дежурная камера, куда приводились лица, подвергнутые административному взысканию за хулиганство. Здесь же устанавливался их учет1. Однако искоренить хулиганство не удалось. Так как борьба велась не с конкретными причинами, породившими данное явление, а со следствием, что и предопределило затяжной его характер.
Основным источником хулиганства стали беспризорники. В 1920-е годы адаптация детей и подростков, фактически оставшихся без внимания родителей, к новым социальным и экономическим реалиям находилась на низком уровне. Так, в конце 1921 года в республике насчитывалось более 23 тыс. беспризорников, а в 1925 году уже – 449402. Ввиду повсеместного проявления хулиганства среди беспризорников НКВД республики рекомендовал Народному комиссариату просвещения и Комиссии по борьбе с детской беспризорностью при ТатЦИКе «всемерно усилить мероприятия по изоляции беспризорников и в первую очередь, хулиганствующих с улиц г. Казани в соответствующие учреждения для несо-вершеннолетних»3.
Были случаи, когда беспризорные образовывали преступную группу, объединенную авторитетным лидером. Несовершеннолетние совершали карманные и квартирные кражи, активно вовлекались в преступную среду. Так, в городе Елабуге действовала преступная группа «невидимых», состоящая из подростков в возрасте 14-18 лет. Участники группы занимались вымогательством у населения города. Лишь в 1928 году сотрудники уголовного розыска смогли обнаружить преступ-ников4.
-
1 ГА РТ. Ф. Р-168. Оп. 1. Д. 210. Лл. 37-38
-
2 ГА РТ. Ф. Р-3682. Оп.1. Д. 1118. Лл. 12, 16; Ф. Р-128. Оп.
-
3 ГА РТ. Ф. Р-3682. Оп. 1. Д. 1473. Л. 160.
-
4 ГА РТ. Ф. П-15. Оп. 2. Д. 484. Лл. 15-16.
-
5 ГА РТ. Ф. П-15. Оп. 2. Д. 355. Л. 92.
Рост проституции стал еще одним следствием безработицы в годы НЭПа. Следует отметить, что положение женщин безработных было несомненно тяжелее, чем положение мужчин. Доля женщин среди безработных превышала 50% в исследуемый период.
Ярким примером, характеризующим социально-экономическую ситуацию в республике, являются слова женщины, приведенные в сводке Татарского отдела ОГПУ за январь 1927 год: «Мы голодаем, сидим без работы… с каждым годом условия жизни становятся хуже и остается одно – идти на улицу и заниматься проституцией…»5.
В январе 1923 года издается совместный Циркуляр НКВД и Наркомздрава «О борьбе с проституцией», в соответствии с которым создавались специальные органы – советы по борьбе с проституцией. Основной их целью являлись координация деятельности по борьбе с проституцией, а также решение всех возникающих вопросов на местном уровне. Параллельно с данным Циркуляром была подготовлена и опубликована инструкция для органов милиции. Основная работа милиции по борьбе с проституцией заключалась «в раскрытии притонов разврата, являющихся наиболее злостными факторами, способствующими широкому развитию проституции; в обнаружении и задержании лиц, промышляющих сводничеством, притонодержательством, вербовкой женщин для проституции, сутенерством…». При этом, выполняя вышеуказанные задачи, милиция не могла применять какие-либо репрессивные действия по отношению к отдельным женщинам, занимающимся проституцией. Всякий раз сотрудник милиции обязан был соблюдать все правила вежливости и корректности и ни в коем случае не допускать грубого обращения с этими женщинами6.
Согласно архивным данным, в ноябре 1923 года в Казани и ее пригородах насчитывалось около 2000 лиц женского пола, занимавшихся проституцией. Из них в возрасте до 12 лет было 5%, с 12 до 20 лет – 35%, с 20 лет и старше 60%. При этом замужних - 30%, вдов - 20%, незамужних – 50%. По социальному происхождению более 50% женщин-проституток были выходцами из деревни7.
Местами вербовки проституток являлись улицы, городские сады, гостиницы, бани, дома инва-
-
1. Д. 537. Л. 108.
лидов, частные кафе и квартиры. Очевидной была и связь этих женщин с преступными элементами. В большинстве своем частные квартиры проституток являлись притонами. Согласно статистике органов милиции, среднемесячное количество протоколов, составляемых за пьянство, нарушение порядка и прочие правонарушения, связанные с проституцией, составляло 1201.
Кроме административных мер, для борьбы с данным негативным социальным явлением применялись меры и социального характера. Так, долгое время обсуждался вопрос об открытии в Казани «дома для беспризорных женщин», где они могли бы получить пристанище и работу. К мерам социального характера следует отнести деятельность Совета социальной помощи при вендиспансере, биржи труда и органов социального страхования по поиску безработным женщинам работы, а также усиление санитарно-просветительной работы среди них [18, с. 85]
Кроме того, проституция стала одной из причин распространения венерических заболеваний. По данным народного комиссариата здравоохранения республики, 76% заболевших заражались от проституток и случайно встречных женщин2.
Росту преступности на фоне безработицы в республике во многом способствовало широкое распространение пьянства и самогоноварения. Несмотря на передачу в начале 1920 годов борьбы с изготовлением спиртного суррогата органам милиции, «варка самогонки» не сокращалась, а интенсивно увеличивалась. Результативности борьбы милиции с самогоноварением препятствовало несоизмеримость наказания размеру получаемой от него прибыли. Так, согласно Уголовному кодексу РСФСР 1922 года, приготовление с целью сбыта вин, водок и других спиртных напитков и спиртосодержащих веществ без надлежащего разрешения или свыше установленной законом крепости, а также незаконное их хранение с целью сбыта напитков и веществ каралось всего лишь принудительными работами на срок до одного года с конфискацией части имущества3.
Согласно статистическим данным НКВД ТАС-СР за 1922-1923 гг., самогоноварение занимало первое место среди уголовных преступлений. В
1924-1925 гг. из 54717 зарегистрированных преступлений 22441 приходилось на приготовление, сбыт и хранение спиртных суррогатов4. Только по городу Казани в среднем за сутки проводилось по 4 обыска с целью выявления мест приготовления и сбыта спиртного суррогата5.
Высокий уровень преступности требовал оперативных мер со стороны правоохранительных органов. Однако ситуация осложнялась нехваткой квалифицированных и опытных кадров, перебоями в обеспечении денежным довольствием и продовольствием, недостатком обмундирования, вооружения и конского состава. На 1 января 1924 года численность милиции ТАССР составляла 1520 человек, что на 35% меньше положенных по штату 2169. В некоторых волостях работали всего по 2 милиционера6.
На заседании коллегии народного комиссариата внутренних дел ТАССР от 17 сентября 1923 года отмечалось, что «тяжелое материальное положение татарской милиции выражается в необеспеченности обмундированием на 50%, обуви на –75%, вооружением на – 41%, конским составом на – 80%. … В весьма низких ставках, по коим производится оплата милицейских работников, в абсолютном отсутствии учебных пособий, как по общим, так и по специальным милицейским предметам…»7. Особенно тяжелая обстановка сложилась в кантонах республики. Здесь, кроме всего вышеотмеченного, у сотрудников кантон-ной милиции отсутствовали служебная телефонная связь и необходимый для выезда на место происшествия транспорт, возможность своевременной отправки корреспонденции.
Согласно архивным документам, даже в ситуации недостаточного материально-технического обеспечения и тяжелых условий службы республиканской милиции раскрываемость преступлений против личности и правонарушений экономического характера составляла от 30 до 60%.
Несмотря на то, что юридически новая экономическая политика была прекращена лишь в 1931 году с полным запретом частной торговли8, уже в конце 1920-хгг. НЭП постепенно был «свернут». Начало индустриализации потребовало большего количества рабочей силы, что привело к исчез- новению массовой безработицы как социального явления. В отсутствие безработицы «характер» преступности изменился и методы борьбы с ней носили уже сугубо репрессивный характер.
Обсуждение и заключения
Проанализированный комплекс источников позволяет сделать следующие выводы:
-
- безработица в ТАССР, ставшая постоянным спутником общественной жизни в годы новой экономической политики, превратилась из простой характеристики рынка труда в массовое социальное явление;
-
- следствием безработицы в структуре республиканской преступности явилось преобладание имущественных правонарушений и преступлений против личности. Преступления совершались как преступниками-одиночками, так и организованными бандитским группами;
-
- безработица привела к небывалому росту в ТАССР детской беспризорности, проституции;
-
- вопреки недостаточному материально-техническому обеспечению и тяжелым условиям службы республиканская милиция смогла сдержать рост преступности.
Список литературы Борьба органов внутренних дел с преступностью в ТАССР в годы нэпа в условиях массовой безработицы
- Герцензон А.А. Преступность и алкоголизм в РСФСР. М., 1930. 146 с.
- Герцензон А.А. Борьба с преступностью в РСФСР. М., 1928. 162 с.
- Гернет М.Н. Преступность и самоубийства во время войны и после нее. М., 1927. 270 с.
- Куфаев В.И. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних. М., 1924. 51 с.
- Хулиганство и преступление: сб. статей. Л.-М., 1927. 176 с.
- Хулиганство и хулиганы / под ред. В.Н. Толмачева. М., 1929. 172 с.
- Убийства и убийцы / под ред. Е.К. Краснушкина, Г.М. Сегала, Ц.М. Фейнберг. М., 1928. 376 с.
- Бажанов А. Имущественная преступность и преступники в Татарской СС республике. Казань, 1931. 29 с.
- Богаутдинов Г. Революционная законность в деревне и органы юстиции. Исправительно-трудовая политика НКЮ ТССР. Казань, 1925. 92 с.
- Сычева А.С. Из истории борьбы советского народа за ликвидацию безработицы в СССР (19261931 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.00. М., 1965. 16 с.
- Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. 168 с.
- Курицын В.М. Переход у НЭПу и революционная законность. М., 1972. 215 с.
- Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступностью / Никифоров Б.С., Миклин А.С., Гуськов В.И. и др. М., 1968. 253 с.
- Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. 572 с.
- Гизатулин Ш.Т. Преступность в российской провинции и борьба с ней в октябре 1917-1922 гг.: на материалах Самарской губернии: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2008. 26 с.
- Камалова Г.Т. Борьба советской милиции с нарушениями общественного порядка в годы новой экономической политики // Вестник ЮУрГУ. 2007. № 18. С. 10-14.
- Гребенкин М.Ю., Галеев Н.В. Правоохранительная деятельность и социальная функция милиции в период проведения новой экономической политики (1921 - 1928 гг.) // Ученые записки КЮИ МВД России. 2019. № 2. С. 123-130.
- Морозов А.В. Гендерные аспекты занятости и безработицы в Татарстане в первой трети ХХ века // Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 3. С. 70-89.
- Маликов А.А., Латышев А.Н., Мулаянов Ш.Н. На страже порядка. Книга первая. МВД Республики Татарстан. Казань: РИЦ «Лиана», 1997. 256 с.
- Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1-2. / под ред. А. Береловича, В.М.Данилова, 2000.