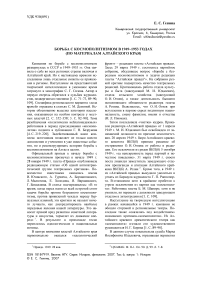Борьба с космополитизмом в 1949-1953 годах (по материалам Алтайского края)
Автор: Генина Е.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736850
IDR: 14736850 | УДК: 930(091)
Текст статьи Борьба с космополитизмом в 1949-1953 годах (по материалам Алтайского края)
Кампания по борьбе с космополитизмом развернулась в СССР в 1949–1953 гг. Она заявила о себе во всех регионах страны включая и Алтайский край. Но к настоящему времени исследованы лишь отдельные сюжеты ее проявления в регионе. Наступление на представителей творческой интеллигенции в указанное время затронуто в монографии С. Г. Сизова. Автор в первую очередь обратился к судьбам журналистов, подвергшихся гонениям [1. С. 71–73, 89–90, 109]. Специфика регионального варианта «дела врачей» отражена в статьях С. М. Деминой. Историк обоснованно выделил категории населения, оказавшиеся на особом контроле у местных властей [2. С. 352–358; 3. С. 82–90]. Тема разоблачения «политически неблагонадежных» работников в период преследования «космополитов» поднята в публикации Г. Н. Безрукова [4. С. 219–220]. Задействованный нами комплекс источников позволяет не только внести дополнения и уточнения в уже известные события, но и реконструировать историю борьбы с космополитизмом на Алтае в целом.
Официальный призыв к началу борьбы с космополитизмом прозвучал в начале 1949 г. 28 января 1949 г. газета «Правда» опубликовала редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Повсеместно известными оказались имена И. Юзовского, А. Гурвича, А. Борщаговского, Л. Малюгина, Е. Холодова, Я. Варшавского, Г. Бояджиева. В статье подчеркивалось: «В то время, когда перед нами со всей остротой стоят задачи борьбы против безродного космополитизма, против проявлений чуждых народу буржуазных влияний, эти критики не находят ничего лучшего, как дискредитировать наиболее передовые явления нашей литературы. Это наносит прямой вред развитию советской литературы и искусства, тормозит их движение вперед» 1 . В результате в пропаганде тесно переплелись идеологические и национальные мотивы.
В центре внимания властей Алтайского края первоначально оказался «идеологический фронт» – редакция газеты «Алтайская правда». Здесь 29 марта 1949 г. состоялось партийное собрание, обсудившее вопрос «Борьба с безродным космополитизмом и задачи редакции газеты “Алтайская правда”». На собрании резкой критике подверглось качество театральных рецензий. Критиковалась работа отдела культуры и быта (заведующий М. И. Юдалевич), отдела сельского хозяйства (заведующий О. И. Огнев), а также деятельность бывшего исполняющего обязанности редактора газеты А. Розина. Выяснилось, что О. И. Огнев при вступлении в партию скрыл подлинную национальность, смену фамилии, имени и отчества (И. Л. Пикман).
Затем последовала «чистка» кадров. Приказом редактора «Алтайской правды» от 1 апреля 1949 г. М. И. Юдалевич был освобожден от занимаемой должности по причине несоответствия. 20 апреля 1949 г. бюро Алтайского краевого комитета ВКП(б) приняло решение об отстранении О. И. Огнева от работы в редакции. Его исключили из рядов ВКП(б) 5 октября 1949 г. «за неискренность перед партией и нечестное поведение». 31 марта 1949 г. своего поста лишился заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Алтайского крайкома ВКП(б) А. Розин 2 . Кроме того, в 1949 г. из «Алтайской правды» вынудили уволиться и уехать из Барнаула журналиста Г. П. Раппопорта. В отношении него в крайкоме прибегли к угрозе исключения из партии как «космополита». Работника газеты Б. М. Шапиро, хотя и не уволили, но перевели с должности заведующего отделом в литсотрудники [1. С. 109].
Наступление на творческую интеллигенцию в рамках начавшейся в 1949 г. кампании не обошло стороной и региональные театры. Последние также «оказались под воздействием» московских критиков-«космополитов». Из Алтайского краевого драматического театра как «космополита» изгнали его художественного руководителя И. Г. Борова [1. С. 89–90].
В данном случае показательна судьба Марка Иосифовича Юдалевича, отразившая перипетии
1 Правда. 1949. 28 янв.
начавшейся кампании. Он родился в 1918 г. в г. Боготоле Красноярского края. В девятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Барнаул. Окончил Омский педагогический институт, в котором преподавал литературу до августа 1941 г. Первые стихи фронтовика Марка Юда-левича появились в военной газете. После демобилизации он работал в «Алтайской правде». Первый сборник стихов М. И. Юдалевича под названием «Друзьям» вышел в 1948 г. Как уже отмечалось, он был уволен 1 апреля 1949 г. Официальная формулировка утверждала: «За грубые политические ошибки, систематическое искривление линии партии от работы освободить, выходного пособия не выдавать». Долгое время журналист оставался без работы, и его семья находилась в сложном материальном положении. Марку Юдалевичу удалось попасть на второстепенную работу в местный радиокомитет. О журналистике ему советовали забыть. Знакомый журналист печатал статьи М. И. Юдалевича под своей фамилией, а затем отдавал ему гонорар. Тогда «космополит» обратился к К. М. Симонову, с которым встречался на фронте. В результате первый секретарь Алтайского крайкома ВКП(б) Н. И. Беляев помог М. И. Юдалевичу устроиться в местную молодежную газету «Сталинская смена». В 1952 г. журнал «Сибирские огни» напечатал первое крупное произведение М. И. Юдалевича – поэму «Алтайский горный инженер», посвященную И. И. Ползунову. М. И. Юдалевич – член Союза писателей России с 1956 г. В 1957–1963 гг. избирался ответственным секретарем краевой писательской организации. В настоящее время он автор более 50-ти книг, изданных в Барнауле, Томске, Новосибирске, Москве. Является Почетным гражданином Барнаула и Алтайского края, заслуженным работником культуры РФ [1. С. 71–72; 5. С. 348].
Активно задействованный с началом кампании принцип «засоренности кадров» использовали в 1950 г. Тогда оказалась вскрытой «нетерпимая ситуация с кадрами», сложившаяся в Алтайском краевом управлении связи. Крайком партии 1 ноября 1950 г. обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой о немедленном отстранении от работы главного инженера учреждения по фамилии Каем. Последний характеризовался как человек, насаждавший в коллективе семейственность, угодничество, подхалимство, как нарушитель финансовой дисциплины. В незаконно созданную проектно-сметную группу Каем «включил свою жену Спасскую, Бердичевского, жену Бердичевского – Райзман, Бочарова, жену Бочарова, Вельмана, Мерс, Унгера и других работников аппарата». При этом грубо нарушалась финансовая дисциплина в составлении проектно-сметных работ, ставших средством личной наживы. Сами работы проводились в рабочее время и некачественно 3.
Апогей кампании и наступления на еврейскую интеллигенцию Алтая пришелся на 1952 г. В феврале 1952 г. Алтайский крайком партии направил в ЦК ВКП(б) две докладные записки, отчетливо отражающие настрой местных властей. В докладной записке от 19 февраля 1952 г. речь шла о наличии компрометирующих материалов на 11 ответственных работников Алтайского тракторного завода (г. Рубцовск), не допущенных к секретным и совершенно секретным документам. Девять из них являлись евреями. Это А. Д. Эфрос, заместитель начальника ТЭЦ, А. Б. Корецкий, заместитель начальника транспортного цеха, С. А. Веприн-ский, начальник машинно-счетной станции, Л. П. Туревский, заместитель начальника инструментального цеха, Ш. И. Прейгерзон, главный металлург, А. М. Капулкин, заместитель начальника тракторосборочного цеха, И. А. Рубинштейн, и. о. главного инженера газогенераторной станции, А. А. Аркадьев (должность не указана. – Е. Г. ), А. Б. Компаниец, заместитель начальника отдела сбыта.
В данном случае особое внимание следует обратить на выдвинутые обвинения. В их числе, как правило, значатся проступки, совершенные в прошлом (членство в еврейских организациях, исключение из ВКП(б) и т. п.), наличие неблагонадежных родственников (лишенных избирательных прав, осужденных, проживающих за границей, указанных в настоящем списке). Согласно списку, лишь три человека придерживались «враждебных» взглядов. А. Д. Эфрос позволял себе «отдельные высказывания проамериканского направления». А. Б. Корецкий заявлял о недовольстве политикой партии и правительства, информировал знакомых о содержании передач радиостанции «Голос Америки». Но главное, что он «высказывал националистические взгляды, восхвалял условия жизни в Америке, Англии и других капиталистических странах». А. А. Аркадьев «в узком кругу знакомых высказывал националистические взгляды» 4 .
Но еще в сентябре 1945 г. группа работников завода «Алтайсельмаш» сообщала советскому руководству о проявлениях антисемитизма в Рубцовске. В письме говорилось об участившихся антисемитских выпадах, связанных с избиениями и оскорблениями евреев на рынке, в магазинах, в школах, в учреждениях и на предприятиях, на улице. По утверждению авторов, местные органы власти зачастую оставляли подобные поступки безнаказанными. Письмо завершалось призывом: «Мы больше не можем молчать! Атмосфера сейчас накалена, эксцессы нарастают с каждым днем, мы деморализованы и не в состоянии работать. Просим срочно прислать комиссию для расследования фактов, изложенных здесь, проверки реагирования на наши сигналы местных партийных и советских организаций» [7. С. 72–74].
Докладная записка от 21 февраля 1952 г. свидетельствовала о неблагополучии с кадровым составом в вузах региона. Тревогу краевого руководства вызывали «компрометирующие биографические данные» преподавателей (судимость, пребывание в плену, нахождение в оккупации, репрессированные родственники и т. п.). В документе упоминался профессор Н. В. Орловский, заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии Алтайского сельскохозяйственного института, ранее служивший у Колчака 5 . Впоследствии он был изображен в фельетоне «Мягкий характер», опубликованном в «Правде» 24 ноября 1952 г. Оказывается, до этого Н. В. Орловского сняли с работы в Новосибирском сельхозинституте «как ярого проповедника морганизма». В последнее время он работал на Убинской опытно-мелиоративной станции, откуда был уволен «как склочник и дезорганизатор». Директор Алтайского сельхозинститута Е. Н. Давыдов отличался «мягким характером», способствовавшим «безобразиям» Н. В. Орловского. Фельетон обнародовал «идейные недостатки» лекций профессора. В нем сообщалось, что «профессор Орловский не только не подчеркивает приоритет русских и советских ученых в разработке научных основ почвоведения, а, наоборот, на все лады восхваляет буржуазных ученых» 6 . Однако еще 15 октября 1952 г. руководство института направило лекции и план лекций профессора в Главное управление сельскохозяйственных вузов Министерства высшего образования СССР «для более полного вскрытия ошибок» и «получения квалифицированной рецензии» 7 .
К рассматриваемому времени Алтайский сельхозинститут давно находился на заметке у крайкома ВКП(б). Беспокойство вызывал не только преподавательский состав, но и студенты. По данным на сентябрь 1949 г., в вузе была недостаточно поставлена идейно-воспитательная работа среди студентов. Не проводились лекции о литературе и искусстве, о моральном облике советских людей, на антирелигиозные темы, не обсуждалось содержание кинофильмов и театральных постановок, отсутствовали литературные диспуты. В силу указанных причин студенты слабо посещали лекции и докла- ды, а иногда и торжественные заседания. Например, 28 февраля 1949 г. на лекцию «Прошлое Алтая» явка составила всего 18 человек. Но в тот же вечер танцевальный зал был переполнен. Кроме того, «в институте имелись факты нездоровых настроений среди студентов, религиозных верований и т. д.» 8.
В марте 1952 г. «боевые действия» вновь развернулись вокруг редакции «Алтайской правды». Точкой отсчета здесь выступило поступившее в Совет Министров СССР анонимное письмо, где говорилось о засилье «космополитов» в краевой газете. Бдительный информатор сообщал: «…все ключевые позиции в краевой газете отныне вновь отданы на откуп людям, ранее в той или иной мере изобличенным в насаждении реакционной идеологии буржуазного космополитизма. Живут они в редакции в мире и дружбе, по мере сил рекламируя друг друга… Если и дальше пойдет дело так, то, надо полагать, что газета скоро будет заполняться интервью различных Раппопортов и Юдалевичей. Спрашивается, какой прием в редакции встретит советский человек, если он является с материалами, разоблачающими космополитические дела? Нет сомнения, такие материалы не видят света» 9 . В письме прозвучали фамилии М. И. Юдалевича, Г. П. Раппопорта, О. И. Огнева, Б. М. Шапиро, Н. А. Благовидова 10 .
В Барнауле срочно провели расследование «дела». Действительно, в аппарате «Алтайской правды» работали Г. П. Раппопорт (заведующий отделом информации), Б. М. Шапиро (заместитель ответственного секретаря), М. И. Юда-левич (литературный сотрудник секретариата), Н. А. Благовидов (заведующий промышленным отделом). Редактор газеты К. А. Захаров доложил Н. И. Беляеву об отсутствии со стороны указанных лиц «каких-либо высказываний или действий космополитического порядка». Хотя «фактов по проявлению космополитизма» не обнаружилось, бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 21 марта 1952 г. приняло решение о кадровых изменениях в редакции. В докладной записке от 25 марта 1952 г. крайком партии заверил ЦК ВКП(б) в том, что Г. П. Раппопорт, Б. М. Шапиро и М. И. Юдалевич будут переведены на другую работу 11 .
При данных обстоятельствах закономерным итогом стало вмешательство ЦК ВКП(б) в сложившееся положение. 29 марта 1952 г. на заседании секретариата ЦК ВКП(б) при председательствовании Г. М. Маленкова заслушали вопрос «О недостатках в руководстве Алтайского крайкома ВКП(б) идеологической работой».
Были рассмотрены уже имевшиеся материалы и заслушаны объяснения первого секретаря Алтайского крайкома ВКП(б) Н. И. Беляева и секретаря крайкома Н. М. Жилякова, непосредственно ведавшего вопросами идеологической работы. Участвовавшие в заседании пришли к выводам, крайне неблагоприятным для крайкома. Отмечалось, что бюро Алтайского крайкома партии и его первый секретарь слабо руководят идеологической работой, а сама эта важнейшая сфера передоверена отделу пропаганды и агитации и одному из секретарей крайкома. Бюро мало интересовалось партийным просвещением и массово-политической работой среди населения. Но главное заключалось в том, что оно «…длительное время проходило мимо засоренности кадров лицами, не внушающими доверия, краевого комитета радиоинформации, краевого издательства и некоторых высших учебных заведений и культурно-просветительных учреждений в крае». К тому же, Н. М. Жиляков отличался «недостаточной политической зрелостью», поскольку не принимал своевременных мер к «очищению» учреждений от «неблагонадежных лиц» 12 .
В итоге ЦК ВКП(б) «принял предложение» Алтайского крайкома партии об освобождении Н. М. Жилякова от занимаемой должности. Крайкому рекомендовалось улучшить руководство идеологической работой в регионе в целом. Не обошли вниманием и уже упоминавшийся «частный» момент, что предполагало «…усиление контроля над деятельностью культурно-просветительных учреждений и издательства, укрепление их кадрами, подготовленными и проверенными в деловом и политическом отношении» 13 .
Но еще 1 февраля 1952 г. бюро крайкома партии определило дальнейшую судьбу «главного виновного». Н. М. Жиляков был снят со своего поста «за допущенные серьезные политические ошибки в руководстве идеологической работой» 14 .
Указанная тема получила продолжение в передовице «Правды» от 14 апреля 1952 г. под заголовком «Правильно подбирать и воспитывать кадры»: «Факты говорят о том, что Алтайский крайком партии еще не навел должного порядка в работе с кадрами, не устранил элементы случайности и непродуманности в таком ответственном деле, как подбор и расстановка работников» 15 .
Завершающей акцией кампании по борьбе с космополитизмом стало «дело врачей» (1953 г.). 13 января 1953 г. «Правда» в разделе «Хрони- ка» поместила сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей». В нем говорилось о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». В сообщении приводился список участников «группы» – виднейших советских медиков. В их числе оказались проф. М. С. Вовси, врач-терапевт; проф. В. Н. Виноградов, врач-терапевт; проф. М. Б. Коган, врач-терапевт; проф. Б. Б. Коган, врач-терапевт; проф. П. И. Егоров, врач-терапевт; проф. А. И. Фельдман, врач-отоларинголог; проф. Я. Г. Этингер, врач-терапевт; проф. А. М. Гринштейн, врач-невропатолог; Г. И. Майоров, врач-терапевт. Уже объявленных «врачами-убийцами» заклеймили и как наемных агентов иностранной разведки. Сообщение ТАСС дополнялось передовицей «Правды» «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», содержавшей вывод о необходимости усиления революционной бдительности 16.
Население края «активно включилось» в обсуждение сообщения ТАСС и передовой статьи «Правды». Информация о данной идеологопропагандистской кампании предоставлялась Алтайским крайкомом КПСС в ЦК КПСС. О настроениях в крае и одновременно об успехах сталинской идеологии и пропаганды свидетельствовали «отдельные высказывания трудящихся». Так, начальник санэпидстанции Рубцовского отделения железной дороги врач Тарский сказал: «Эта шайка убийц, прикрываясь дипломами врачей и учеными степенями, по заданию иностранных разведок творила черные деяния, подготовляла убийство советских полководцев. Как врач осуждаю предателей и прошу советское правительство принять к ним самые суровые меры наказания». Врач Грознова (Тальменская райбольница) высказалась следующим образом: «Эта группа диверсантов, прикрывшаяся званием советских врачей, опозорила медицинских работников…». Учитель Аверцев (Змеиногорский райотдел народного образования) заявил: «Чувствуя скорую свою гибель, империалисты всячески стараются навредить лагерю мира и демократии. Они засылают шпионов и убийц в нашу страну». Внимание местных властей, безусловно, было привлечено к кадрам медицинских работников [6. С. 139, 140–143]. Но региональное «дело врачей» смягчило отсутствие в крае медицинского института. Алтайский государственный медицинский институт был открыт в Барнауле только в 1954 г.
Одновременно с осуждением «врачей-убийц» последовала борьба с «притуплением политической бдительности». Под пристальным вниманием местных властей вновь оказались лица с «сомнительной политической репутацией» (о сужденные за контрреволюционную деятельность, дети бывших кулаков, торговцев, священнослужителей и др.). Другой «подозрительной категорией населения» стали спецпере-селенцы – преимущественно немцы, депортированные из Поволжья в 1941 г. Теперь их увольняли с работы «как не внушавших политического доверия». Под прицелом оказались и руководители, допустившие «засоренность кадров» [2. С. 354–355]. Следствием подобного подхода явились события, связанные с г. Камнем-на-Оби. Из данного населенного пункта в начале 1953 г. в «Правду» поступило письмо без подписи «о фактах нечуткого отношения Каменского горкома КПСС к заявлениям и письмам трудящихся, о засоренности кадров в городе и недостатках в работе прокурора города Камня т. Сахно» 17.
Руководство края было обеспокоено наличием политически неблагонадежных работников на Алтайском тракторном заводе, Алтайском вагоностроительном заводе, Барнаульском котельном заводе, в Алтайском сельскохозяйственном институте, Алтайском институте сельскохозяйственного машиностроения. Крайком ВКП(б) был весьма озабочен «значительной концентрацией лиц еврейской национальности» среди инженерно-технического персонала ведущих предприятий края. Так, на Алтайском тракторном заводе на руководящей работе находились 293 еврея, на Барнаульском котельном заводе – 65 евреев. В связи со сложившейся ситуацией в январе 1953 г. Алтайский крайком КПСС обратился в ЦК КПСС с просьбой оказать помощь в решении кадрового вопроса для названных предприятий и вузов 18 .
Идеологическое сопровождение «дела врачей» обеспечивала местная периодическая печать. Большое воздействие на массового читателя были призваны оказать фельетоны, открывавшие широкие возможности для критики неугодных лиц и рисующие образ «типичного представителя» еврейской национальности. «Алтайская правда» разоблачила начальника бюро рационализации Алтайского вагоностроительного завода Е. Л. Розенблюма, присвоившего чужое рационализаторское предложение (фельетон «О рационализаторах и махинаторах»), а также заместителя заведующего Горно-Алтайской юридической консультацией Н. М. Берфельда, по ротозейству и беспечности устроившего на работу проходимца Пруниса-
Кравца (фельетон «Дреманное око») 19 . Весьма красноречив фельетон «Ревекка не унимается…», опубликованный в газете «Большевистский призыв», в котором идет речь о главном бухгалтере конторы ЖКХ треста № 46 г. Рубцовска Р. И. Петруниной, не только имевшей «черную кассу», но и устроившей в названное учреждение ряд «своих» людей 20 .
Как правило, изложенные в фельетонах факты подвергались проверке, а газеты помещали отчеты о «проведенных действиях», решалась судьба критикуемых. Е. Л. Розенблюма исключили из партии за «неблаговидное поведение». За злоупотребления и обман адвоката Пруниса исключили из членов коллегии адвокатов, материал на него передали в прокуратуру. Партбюро треста № 46 г. Рубцовска предложило руководству треста освободить Р. И. Петрунину от занимаемой должности 21 .
Особо отметим, что уже во второй половине 1952 г. «Большевистский призыв» опубликовал пять фельетонов «антиеврейского» содержания. Из них три имели серьезные последствия для критикуемых, что засвидетельствовала городская газета 22 .
Важный аспект рассматриваемой темы, нуждающийся в дальнейшем изучении, составляет непосредственная репрессивная политика. Анализ документов свидетельствует, что в конце 1940-х – начале 1950-х гг. по обвинениям в контрреволюционных преступлениях осуждено несколько работников Алтайского тракторного завода, евреев по национальности. Л., 1911 года рождения, уроженец Вильнюса, работал слесарем чугунолитейного цеха. Арестован 12 апреля 1949 г. Обвинялся в клевете на советскую действительность, восхвалении политического строя в капиталистических государствах. Осужден Алтайским краевым судом 20 мая 1949 г. по ст. 58-10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Г., 1903 года рождения, уроженец Одессы, работал старшим экономистом жилищно-коммунального отдела. Арестован 5 июня 1950 г. Осужден Особым совещанием при МГБ СССР 6 сентября 1950 г. по ст. 58-10 (ч. 1) и 58-11 УК РСФСР «за принадлежность к меньшевикам и антисоветскую агитацию» к ссылке на поселение в Красноярский край. Л., 1919 года рождения, уроженец Варшавы, работал экспедитором энергоцеха ЖКО. Аре- стован 26 января 1953 г. Обвинялся в проведении антисоветской агитации, направленной на подрыв экономической и политической мощи советского государства, дискредитацию политики партии и правительства. Осужден Алтайским крайсудом 3 апреля 1953 г. по ст. 58-10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудового лагеря с поражением в правах на 5 лет. В настоящее время все они реабилитированы 23.
Отдельную страницу исследования могла бы составить деятельность еврейских общин Алтайского края в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Но отсутствие документов не позволяет осветить этот вопрос. По нашим сведениям, в середине 1940-х гг. существовали еврейские общины в Барнауле и Бийске. Все их попытки получить официальный статус не увенчались успехом 24 .
Таким образом, официальной целью кампании по борьбе с космополитизмом, проходившей в обстановке «холодной войны», стало сплочение общества под знаменами советского патриотизма. Кампания по борьбе с космополитизмом воплотила в себе черты предшествовавшей кампании по борьбе с «низкопоклонством перед Западом». Негласной целью явилось устранение «нежелательных элементов», а вместе с этим – послевоенных надежд в обществе на перемены. После нескольких лет кампании, и прежде всего «дела врачей», общественное мнение оказалось подготовленным к политическому судебному процессу, возможность которого устранила смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. Открывались и перспективы для «чистки» кадров (независимо от национальной принадлежности). В Алтайском крае отсутствовали крупные политические «дела», подобные «делу КМК» в Кемеровской области (1949–1952 гг.), когда в причастности к нелегальной еврейской синагоге Сталинска (ныне – Новокузнецк) обвинили ряд руководящих работников Кузнецкого металлургического комбината [10. С. 11–41]. Но борьба с космополитизмом в регионе заявила о себе во всевозможных проявлениях, отра- зила многие «общесоюзные» составляющие кампании. К ее региональной специфике можно отнести ситуацию, сложившуюся в Рубцовске и характеризующуюся явными «антиеврейскими» настроениями.
Материал поступил в редколлегию 18.10.2006