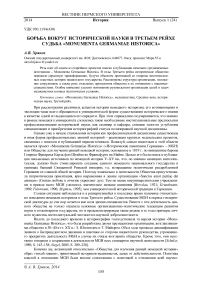Борьба вокруг исторической науки в Третьем рейхе судьба «Monumenta Germaniae Historical
Автор: Хряков А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История исторического знания
Статья в выпуске: 1 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
Речь идет об одном из старейших проектов поиска и публикации немецких средневековых источников - Monumenta Germaniae Historica. В годы Третьего рейха историческое общество пережило серьезную трансформацию, будучи объектом притязаний со стороны многочисленных властных центров нацистского государства. Рассмотрены структура организации, положение сотрудников, а также роль отдельных президентов общества и их отношение с национал-социалистами. Особое внимание уделено пониманию руководством организации целей и задач медиевистики в новых политических условиях.
Медиевистика, средние века, историческая наука, третий рейх
Короткий адрес: https://sciup.org/147203521
IDR: 147203521 | УДК: 930.1:(94(430)
Текст научной статьи Борьба вокруг исторической науки в Третьем рейхе судьба «Monumenta Germaniae Historical
При рассмотрении различных аспектов истории немецкого историзма , его возникновения и эволюции чаще всего обращаются к университетской форме существования исторического знания в качестве одной из выдающихся его парадигм . При этом справедливо подчеркивается , что именно в рамках немецкого университета сложились такие необходимые институциональные предпосылки профессионализации исторической науки , как семинар и кафедра , ставшие залогом углубления специализации и приобретения историографией статуса полноправной научной дисциплины .
Однако уже в начале становления истории как профессиональной дисциплины существовала и иная форма профессиональных занятий историей – реализация крупных издательских проектов , связанных с поиском и публикацией первоисточников . Пожалуй , самым известным в этой области является проект «Monumenta Germaniae Historica» (« Исторические памятники Германии » – MGH) или Общество для изучения ранней немецкой истории , основанное в 1819 г . по инициативе барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна во Франкфурте на Майне . Целью его были поиск и публика ция письменных источников по немецкой истории V–XV вв ., что , по мнению немецких интеллек туалов , должно было стимулировать создание единого немецкого национального государства в границах бывшей Священной Римской империи , т . е . возвращение политически раздробленной Германии ее славной общей истории . Поэтому изначально в деятельности Общества присутствова ла патриотическая ориентация , ярко выраженная в девизе организации «Sanctus amor patriae dat animum» ( Святая любовь к отчизне укрепляет дух ). Тем не менее внеуниверситетским учреждени ям и прежде всего MGH уделялось значительно меньше внимания [ Bresslau, 1921; Grundmann, 1969; Fuhrmann, 1996; Мэртль , 1995], чем университетской исторической традиции в Германии .
Схожая ситуация наблюдается и в развернувшейся в последнее время полемике относитель но поведения немецких историков в годы Третьего рейха . Существование MGH в период гитлеров ской диктатуры до сих пор остается вне поля зрения специалистов . Вместе с тем деятельность дан ного общества не только отразила основные организационно - политические тенденции развития науки в тоталитарном государстве , но и продемонстрировала такие редкие в те годы примеры лич ного мужества , интеллектуальной честности и научной добросовестности .
Вплоть до последнего времени в историографии господствовала та версия истории «Monu-menta Germaniae Historica», что была разработана двумя президентами организации , возглавлявши ми общество в 30–40- е гг . XX в .: Э . Штенгелем и Т . Майером . Оба в ходе процесса денацификации заявили о беспрецедентном давлении и шантаже со стороны нацистского руководства , угрожавше го прекратить деятельность MGH в случае их отказа возглавить общество . Кроме того , они неус танно говорили о сохранении в деятельности MGH всех стандартов научной деятельности [ Schulze , 1989, S. 145–158; Nagel , 2005, S. 209–228].
Конечно же , возникший относительно « Общества для изучения ранней немецкой истории » образ « тихой гавани », приютившей историков - медиевистов , далек от действительности . Политика властей в отношении MGH была вполне сопоставима с политикой в отношении всей научно -
организационной среды и укладывается в рамки национал - социалистической научной политики . Как и подавляющее большинство немецких организаций , Общество стало предметом нешуточной борьбы между представителями различных властных центров нацистского государства . Но особен ности внутренней организации MGH, ее высокий научный статус и длительная история существо вания серьезно трансформировали вызовы , исходившие от политических властей .
Уже основателями Общества были заложены те принципы его функционирования , которые с небольшими изменениями сохранились вплоть до нашего времени . Это прежде всего частный , не зависимый принцип существования общества и коллегиальный принцип руководства . После про шедшей в 1872–1875 гг . реформы управления во главе общества встала так называемая Централь ная дирекция , состоявшая из представителей нескольких академий общегерманского пространства ( Берлинской , Мюнхенской , Венской ). Каждый из отделов MGH (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae, Antiquitates) подчинялся одному из членов дирекции , именно они избирали президента , который являлся единственным государственным чиновником и получал из бюджета фиксирован ное жалование .
Сама система функционирования MGH способствовала известной свободе данного общества и проведению относительно либеральной кадровой политик b. Выпускники университетов , моло дые доктора наук практически не стремились участвовать в данном издательском проекте . Даже работа в архиве , не говоря уже об университете , оплачивалась много выше и считалась более пре стижной . Это открывало дорогу в MGH тем группам немецкого общества , которым по различным причинам чиновничья или преподавательская карьера была заказана . В разные периоды немецкой истории такие группы составляли представители еврейской нации , женщины , политические оппо ненты власти . Работа в рамках Общества не требовала для продолжения научной карьеры высшей , докторской , степени , гораздо важнее были знание классических и современных языков , скрупулез ное изучение источников , архивных фондов и колоссальная работоспособность . Это создавало воз можности для коллективной формы работы с присущим ей разделением труда , а значит , с равнове ликим вкладом всех в общий научно - исследовательский проект , что делало бессмысленной внут - риорганизационную иерархию , подобную той , что существовала в рамках университетских кафедр . Кроме того , работа в MGH давала определенную степень свободы , благодаря которой сотрудники имели возможность заниматься собственными , не связанными с проектами общества , исследова ниями .
Столетний юбилей организации , праздновавшийся в 1919 г ., пришелся на не самое лучшее время , на период политического и экономического кризиса в Германии . В это трудное время MGH возглавил директор Прусского исторического института в Риме и генеральный директор прусских архивов Пауль Фридолин Кеер (1860–1944) [ Holtzmann, 1951]. Условием своего назначения П . Ф . Кеер выдвинул « укрепление авторитета председателя ». Послевоенная инфляция не позволила ему провести кардинальные перемены , тем не менее невозможными стали регулярные созывы Цен тральной дирекции , нередко противостоявшей председателю . Кеер упрекал Центральную дирек цию в том , что она злоупотребляла своим правом и подолгу не избирала председателя . Новый фи нансовый кризис и приход к власти Гитлера в 1933 г . позволили ему осуществить задуманное .
Многолетний руководитель научного учреждения Кеер учитывал в своей работе то , что про изошло с исторической наукой за последние полвека . Стремительный рост исторического знания , его углубление и специализация сделали невозможным профессиональный охват всего историче ского пространства одними лишь университетами , являвшимися центрами не только науки , но и преподавания . Наблюдая за ситуацией в естественных науках , где гораздо раньше осознали необ ходимость создания внеуниверситетских научно - исследовательских центров и академий , Кеер пришел к выводу , что медиевистика должна следовать в этом же направлении . В двух своих запис ках к новым властям он предложил новый вариант устава организации , в соответствии с которым она бы строилась на принципах единоличного управления и таким образом прекращалась бы прак тика коллегиального руководства в Обществе .
Согласно новому уставу с 1 апреля 1935 г. Общество получило новое название – Имперский институт древней немецкой истории. Центральная дирекция распускалась, а вся власть переходила к президенту института, напрямую подчиненного министру науки. Чтобы сохранить хотя бы иллюзию коллегиальности, создавался некий совет «почетных членов института» из 12 человек, приглашаемых по рекомендации президента из представителей основных немецких академий [Reichs- institut…, 1937, S. 276–277]. Впервые в качестве задач института было объявлено не только издание средневековых текстов, относящихся к немецкой истории, но и исследование истории немецкого Средневековья. Кроме того, устав предполагал и изменение всей конфигурации внеуниверситет-ской науки в Германии. Теперь главе MGH подчинялся не только Немецкий исторический институт в Риме, ему также поручался надзор за Союзом немецких историков, территориальными историческими комиссиями и разнообразными обществами любителей немецкой истории и древностей. Все это делало новый институт предметом притязаний со стороны многочисленных центров власти в нацистском государстве.
Кеер полностью поддержал новый проект устава , заявив , что подобная централизация на прашивалась давно и что благодаря нововведениям « начнется новая эпоха и , как мы надеемся , но вый расцвет » [Reichsinstitut…, 1937, S. 277]. По его словам , то , « в чем институт действительно ну ждался , « новый устав удовлетворил полностью , он обеспечил прежде всего столь необходимое единство руководства в лице президента » [ Kehr, 1935, S. 33]. Но после произошедшей в 1935 г . от ставки П . Ф . Кеера в Имперском институте начался самый настоящий кризис управления . Поиски пригодного преемника , прежде сопровождавшиеся дискуссиями о профессиональных и личност ных качествах претендентов , теперь дополнились требованиям оценки политических пристрастий ученых .
Кеер неоднократно заявлял , что президентом нового института должен стать историк права Карл Август Экхардт (1901–1974) [ Kehr, 1935 , S. 34]. В новых политических условиях он как никто другой подходил для этой должности : член СА с 1931 г ., член нацистской партии с 1932 г ., член СС с октября 1933 г . Кроме того , Экхардт обладал и весомым профессиональным опытом , в том числе публикационным , уже в 27 лет он стал профессором по истории немецкого права в университете города Киля [ Niemann, 2004]. С октября 1934 г . Экхардт служил референтом в Прусском министер стве науки , воспитания и народного образования , в отделе высшей школы , отвечая за назначение претендентов на вакантные университетские должности по юридическим , экономическим , истори ческим специальностям . Он обладал правом беспрепятственного доступа к министру науки Берн хардту Русту , а также был в дружеских отношениях с руководителем СС Генрихом Гиммлером , с которым регулярно обменивался письмами .
Но хорошо известная гибкость , многочисленные связи и знакомства Кеера , не раз выручав шие его в трудные времена Веймарской республики , не позволили ему провести своего человека на пост президента . В ходе острой закулисной борьбы на партийные и научные заслуги Экхардта ни кто не обратил внимания , учитывались прежде всего личная преданность кандидата и аппаратный вес покровителя . Уже подписанное назначение Экхардта было отменено приказом Альфреда Ро зенберга , к которому за поддержкой обратился одиозный « фюрер » исторической науки Вальтер Франк (1905–1945), сыгравший в развернувшейся борьбе за пост президента MGH ключевую роль [ Heiber, 1966].
В противостояние Франка и Эрхардта была втянута практически вся верхушка нацистской Германии , включая Гитлера , который лично предоставил профессорство Франку и выступил про тив назначения Экхардта , заявив , что он имеет « совершенно неудовлетворительную точку зрения по еврейскому вопросу » [ Niemann, 2004, S. 170]. Поводом для данного высказывания фюрера стала позиция Экхардта , изложенная им в 1934 г . в некрологе , посвященном Максу Паппенхайму (1860– 1934), своему предшественнику по кафедре в Киле . В своих бесчисленных интригах Франк не брез говал никакими средствами , в том числе откровенными доносами ; именно в письмах к Розенбергу и Русту он указал на непозволительные высказывания Экхардта [ Niemann, 2004, S. 171].
Первого апреля 1936 г . новым главой Имперского института древней немецкой истории был назначен мало кому известный тридцатиоднолетний вюрцбургский архивист Вильгельм Энгель (1905–1964). Он не был ни медиевистом , ни старым партийцем , в партию вступил вместе со мно гими другими « попутчиками » 1 мая 1933 г ., но он был человеком В . Франка , который пренебрежи тельно называл сотрудников MGH не иначе как « торгашами пергаментов ». Франк сумел продавить это назначение через нерешительного министра науки Руста . По мнению немецкого историка Х . Хайбера , Франку был нужен в параллельном институте такой человек , « который не будет опа сен » [ Heiber, 1966, S. 870].
В ноябре 1935 г. Энгель защитил докторскую диссертацию под руководством марбургского профессора Эдмунда Штенгеля. Уже в марте 1936 г. собственное министерство предоставило Эн- гелю должность приват-доцента по средневековой истории и вспомогательным историческим дисциплинам в Берлинском университете, а летом того же года последовало назначение на должность экстраординарного профессора [Bünz, 2002].
В качестве главы MGH и Немецкого исторического института в Риме Энгель выступил с программной статьей « Немецкое Средневековье . Задачи и пути его изучения », ознаменовавшей выход первого после реформирования номера специализированного журнала « Немецкий архив по истории Средневековья ». Новоиспеченный президент в самом начале своей статьи определил об щественно - политические задачи исторической науки вообще и медиевистики в частности . Ссыла ясь на события последних двух лет , новый руководитель MGH повсюду обнаруживал проявления « борьбы за новое содержание и новые формы » отдельных научных направлений . Демонстрируя свою приверженность национал - социализму , он заявил о том , что наука должна быть ориентирова на на « немецкий народ и немецкий дух ». Именно они являются конечной целью и масштабом задач и дел национально ориентированной науки [ Engel, 1937, S. 4].
В этой публикации В . Энгель не столько постарался продемонстрировать значение Средне вековья как одной из центральных эпох в мировой истории , сколько обратил внимание на инстру ментальный характер этого периода , подчеркнув его значение для борьбы за ресурсы между раз личными историческими организациями , учеными и поддерживающими их партийными и государ ственными инстанциями . По его словам , Средневековью необходимо вернуть в современном соз нании заслуженное место как « ценной , живой и политически значимой эпохи национального ста новления немцев », для которых оно является начальным национальным этапом настоящего . Ме диевистам и , соответственно , новому институту в таком случае необходимо всеми силами способ ствовать познанию и пробудить восхищение предметом своего исследования – Средневековьем [ Engel, 1937, S. 5].
То , что ресурсы не безграничны , Энгель знал как никто другой , и потому борьба за них должна вестись сразу по нескольким направлениям . Он отметил стремительный рост в последнее время популярности ранней и Новой истории , что грозило Средним векам оказаться раздавленны ми первобытностью , с одной стороны , и современностью – с другой . Но , пожалуй , самые грозные слова Энгеля были обращены против многочисленных дилетантов от истории . Именно к ним отно сится тот раздел статьи , в котором новый глава института говорит о необходимости « добросовест ного употребления методов исследования ». Он выступает против « фразерства и туманных речей , против мнимого пророческого взгляда в прошлое , против пошлой банальности и романтической мечтательности , короче , против безответственного дилетантизма и ушлого бумагомарательства » [ Engel, 1937, S. 6]. В суждениях Энгеля нет противоречий , как могло бы показаться на первый взгляд , его слова о приверженности идеалам объективности не являются ритуальными фразами . Он , как и большинство профессиональных историков , не видел ничего плохого во вмешательстве политики и власти в науку , тем более , что сам стремился поставить медиевистику на службу тем же целям , что и национал - социалисты . Авторитет науки , с его точки зрения , подрывают всезнайки , профаны , не имеющие академических степеней , именно то « оголтелое учительство », о котором так часто вспоминали немецкие профессора после падения Третьего рейха , обвиняя именно его в поли тической ангажированности исторических исследований [ Rothfels, 1965].
По мнению Энгеля , власть должна обратиться именно к профессиональной науке , так как политическая ситуация требует « научной мысли », она велит заниматься самоотверженной и вни мательной к деталям , кропотливой работой в тиши кабинетов . Она требует строгого соблюдения особых , выработанных в XIX в ., методов исследования средневековых источников [ Engel, 1937, S. 6]. Новый руководитель MGH всеми силами стремился показать нацистскому руководству особое положение средневекового периода в истории Германии , его важность и значимость для формиро вания немецкого народа и государства . По его словам , « сегодня мы переживаем новый великий поворот . Мы стоим на новом рубеже . Мерилом и путеводной нитью для нас сегодня являются лишь немецкий народ , его этничность и его Рейх » [ Engel, 1937, S. 10].
Вне всякого сомнения, данная статья была призвана продемонстрировать лояльность и преданность нового президента MGH национал-социалистическим заповедям. По мере развертывания «гитлеровской революции» между разными историческими субдисциплинами и научными направлениями обострилась борьба за первенство, в которой принимали участие самые высокие представители нацистских государственных и партийных органов. Это заставляло историков (не только медиевистов) напрямую обращаться к власть предержащим и искать их расположения, требуя защиты и поддержки в борьбе за пресловутый «капитал», как символический, так и вполне реальный, доказывая практическую значимость предмета собственного интереса.
Энгель , занимая один из важнейших постов в немецкой историографии , хотя и ратовал на словах за объективность и строгую научность исторических исследований и стремился освободить медиевистику от политического вмешательства , сам включился во властную борьбу за контроль над исторической наукой и ее исследовательскими институтами . Выступая на стороне В . Франка , Энгель нажил себе множество врагов , и прежде всего в СС . Против него выступил не только К . А . Экхардт , не желавший смириться с назначением вюрцбургского архивиста на пост президента MGH, руководители научных ведомств СД были недовольны проводимой Энгелем кадровой поли тикой , позволявшей получить в институте работу неугодным ученым , прежде всего евреям [ Löffler , 2001]. Весной 1937 г . руководство СД потребовало увольнения Энгеля из MGH.
С 1 ноября 1937 г . пост президента Имперского института перешел к научному руководите лю Энгеля медиевисту из Марбурга Эдмунду Эрнсту Штенгелю (1879–1968). Несмотря на то что марбургский профессор вступил в нацистскую партию достаточно поздно , лишь в 1942 г ., в глазах нацистских властей его фигура выглядела более предпочтительно , чем прежний исполняющий обя занности . Он обладал не только необходимой профессиональной подготовкой , но и нужными по литическими связями . В назначении Штенгеля эсесовцы и лично Гиммлер приняли самое активное участие . В этой кандидатуре , по словам одного из научных референтов СС , их привлекало то , что « благодаря назначению Штенгеля данный Имперский институт вышел из - под влияния Вальтера Франка , чего не случилось бы при назначении Энгеля – креатуры Франка . Кроме того , Штенгель , являясь протестантом и демонстрируя в своих книгах ясную позицию в отношении исторической деятельности римской церкви , кажется , будет невосприимчив к католическому влиянию » [ Löffler, 2001 , S. 226].
Несмотря на поддержку нацистов и назначение на должность президента преобразованной MGH, Штенгелю также пришлось столкнуться с прямой конкуренцией со стороны В . Франка , не смирившегося с отстранением его ставленника . Франк с присущей ему тягой к авантюрам , разрабо тал план объединения двух исторических институтов , конечно же , под его руководством . Э . Штен - гель приложил колоссальные усилия для предотвращения этого . Охраняя независимость собствен ной организации , он заручился поддержкой весьма влиятельных лиц , в том числе обер - бургомистра Мюнхена рейхсляйтера Филера , министра Руста , и активно искал возможности для встречи с са мим Гитлером [ Nagel, 2005, S. 42]. По действиям Штенгеля стало понятно , что в бесцеремонности и находчивости он нисколько не уступал своему оппоненту . Тесные отношения с представителями верхушки нацистской партии и государства позволили Штенгелю отстоять независимость собст венного института , но постоянные конфликты с Франком и контакты , которые требовали небыва лого напряжения , серьезно вымотали его психологически , поэтому он довольно быстро согласился на предложение вернуться в родной Марбург [ Nagel, 2005 , S. 43].
В 1942 г . Штенгель покинул Берлин и вернулся на свою бывшую кафедру , а новым прези дентом стал Теодор Майер (1883–1972), расставшийся с ректорством в Магбургском университете . Способности последнего вместе с сильной волей и ярко выраженным самолюбием способствовали тому , чтобы его идеи нашли отклик в специфических общественно - политических условиях нацио нал - социалистического государства .
Еще в 1940 г ., сразу после победы над Францией и установления немецкого господства над Европой , Майер задумался о планах послевоенной реорганизации исторической науки не только в Германии , но во всей Европе . Учитывая последние результаты нацистской захватнической полити ки , Майер посчитал нужным сместить акцент с « общегерманского » на « общеевропейское » пони мание истории . Цель подобной смены перспективы была обусловлена тем способом аргументации , что базировался на национально ориентированной парадигме , согласно которой Германия в Европе всегда играла выдающуюся роль « силы порядка ». Лишь в рамках « общеевропейского » понимания истории станет понятной « положение и функции германского центра в Европе как принципа по рядка и структуры » [ Mayer, 1940, S. 21]. Новый подход должен был соответствовать актуальным политическим задачам , а значит , применяться к истории не только центральноевропейских держав ( Германии и Австрии ), но и всех европейских народов , имеющих общие германские корни .
Эти убеждения образовали идеологическую основу для научно-организационной деятельно- сти Т. Майера на посту президента Имперского института древней немецкой истории. Концепцию европейского образа истории, который должен определяться немецкой исторической наукой, он признал важной «последней целью» [Maurer, 2008, S. 521].
Немецкий медиевист был уверен , что вслед за военным столкновением в Европе будет про исходить духовная борьба . Если немецкая историческая наука хочет одержать победу в этой борьбе и претендовать на интеллектуальное руководство на континенте , она должна в захваченных стра нах создать научные опорные пункты . Еще в 1941 г ., сразу же после окончания западной кампании немецкой армии , Майер обратился в Министерство науки , воспитания и народного образования с предложением создать в Париже Немецкий исторический институт , который сможет после оконча ния войны подтвердить ведущие позиции немецкой исторической науки в европейском простран стве [ Grau, 1993].
Майеру мало что удалось реализовать из задуманной им программы реформирования MGH. В последние годы войны он приложил максимум усилий для эвакуации из Берлина , подвергавше гося постоянным авиаударам , библиотеки Имперского института в Поммерсфелден , что в Баварии , туда же было перевезено и собрание книг из Немецкого исторического института в Риме .
В сентябре 1945 г . Майер был арестован американцами и девять месяцев находился в лагере для интернированных . В декабре 1947 г . после долгого разбирательства суд , несмотря на много численные ходатайства и положительные отзывы коллег , признал немецкого историка « соучастни ком », запретив занимать любые государственные должности , в том числе претендовать на долж ность президента восстановленной MGH.
Двенадцатилетняя история Monumenta Germaniae Historica демонстрирует существование противоречия в научной политике Третьего рейха , противоречия между враждебностью национал - социалистической идеологии в отношении интеллектуального творчества , с одной стороны , и не обходимостью конкретной научно - практической деятельности для нужд тоталитарного государства – с другой . Вследствие этого просматриваются две линии поведения нацистов в отношении исто рической науки и одного из старейших научно - исследовательских институтов Германии . Первая предполагала полную « унификацию » историографии и замену старой , « объективистской », или « еврейско - либеральной », исторической науки новой , « борющейся ». Вторая была связана с инте грацией консервативной националистической историографии Германии в структуры нового госу дарства . Две эти тенденции проявились как в поведении власти , так и в закономерностях институ ционального развития немецкой исторической науки времен Третьего рейха .
В первые годы существования фашистского режима , безусловно , преобладала первая тен денция , обнаружившаяся в кадровой политике нацистов в отношении неугодных сотрудников учебных заведений и реформировании высшей школы . Об этом свидетельствуют ликвидация в 1935 г . Имперской исторической комиссии под руководством Германа Онкена , а также деятель ность В . Франка и его Института истории новой Германии . Принятие в том же году нового устава MGH и превращение уважаемой организации в Имперский институт древней немецкой истории , сопровождавшееся перенесением на него фюрерских принципов руководства , нужно рассматри вать в русле этой же политики .
Наряду с этой сугубо разрушительной практикой сначала неотчетливо , а после 1937 г . все более четко проявляется вторая тенденция – к сотрудничеству с профессиональной , по преимуще ству националистически ориентированной , частью немецкого исторического сообщества . В рамках MGH об этом свидетельствует назначение на президентский пост профессоров Штенгеля и Майера , признанных специалистов в средневековых исследованиях , сделавших себе имя еще до прихода Гитлера к власти . Такая линия поведения нацистских властей объясняется прежде всего заинтере сованностью государства в существовании профессиональной науки , а по мере приближения к 1939 г . эта заинтересованность возрастает , причем не только в естественнонаучной области , что вполне понятно , но и в гуманитарной .
Список литературы Борьба вокруг исторической науки в Третьем рейхе судьба «Monumenta Germaniae Historical
- Мэртль К. Monumenta Germaniae Historica: взгляд изнутри//Средние века. 1995. Вып. 58. С. 95-111.
- Bresslau H. Monumenta Germaniae Historica. Im Auftrage der Generaldirektion. Hannover, 1921.
- Bunz E. Ein Historiker zwischen Wissenschaft und Weltanschauung: Wilhelm Engel (1905-1964)//Die Univer-sitat Wurzburg in den Krisen der ersten Halfte des Weltkrieg und dem Neubeginn 1945/Hrsg. Von P. Baum-gart Wurzburg, 2002.
- Engel W. Deutsches Mittelalter. Aufgabe und Weg seiner Erforschung//Deutschen Archiv fur Geschichte des Mittelalters. 1937. 1. Jg.
- Fuhrmann H. «Sind eben alles Menschen gewesen». Gelehrtenleben im 19. und 20. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Monumenta Historica Germaniae und ihrer Mitarbeiter. Munchen, 1996.
- Grau C. Planungen fur ein Deutsches Historisches Institut in Paris wahrend des zweiten Weltkrieges//Francia. 1993. 19.
- Grundmann H. Monumenta Germaniae Historica 1819-1969. Munchen, 1969.
- Heiber H. Walter Frank und sein Reichsinstitut fur Geschichte des neuen Deutschland. Stuttgart, 1966.
- Holtzmann W. Paul Fridolin Kehr//Deutschen Archiv fur Geschichte des Mittelalters. 1951. 8. Jg.
- Kehr P. Die Preussische Akademie und die Monumenta Germaniae und deren neue Satzung. Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der Preussischen Akademie der Wissenschaften Phil.-Hist. Klasse. Berlin, 1935.
- Loffler H. Entwicklung und Aufgaben der Geschichtswissenschaft in Deutschland//Lerchenmuller J. Die Geschichtswissenschaft in den Planungen des Sicherheitsdienstes der SS. Der SD-Historiker Hermann Loffner und seine Gedenkschrift «Entwicklung und Aufgaben der Geschichtswissenschaft in Deutschland». Bonn, 2001.
- Mayer Th. Deutschland und Europa. Marburg, 1940.
- Maurer H. Theodor Mayer (1883-1972). Sein Wirken vornehmlich wahrend der Zeit des Nationalsozialismus//Osterreichische Historiker 1900-1945. Lebenslaufe und Karrieren in Osterreich, Deutschland und der Tschecho-slowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Portrats/Hrsg. von K. Hruza. Wien; Koln; Weimar, 2008. Nagel A.Ch. Im Schatten des Dritten Reichs. Mittelalterforschung in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1970. Gottingen, 2005.
- Niemann M. Karl August Eckhardt//Die Juristen der Universitat Bonn im «Dritten Reich»/Hrsg. von M. Schmoeckel. Koln, 2004. S.
- Reichsinstitut fur altere deutsche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae Historica). Jahresbericht 1934//Deutschen Archiv fur Geschichte des Mittelalters. 1937. 1. Jg.
- Rothfels H. Die Geschichtswissenschaft in den dreiBiger Jahren//Deutsches Geistesleben und Nationalsozialis-mus/Hrsg. von A. Flitner. Tubingen, 1965.
- Schulze W. Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. Munchen, 1989.