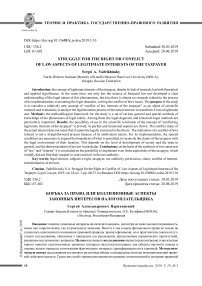Борьба за право, или коллизионные аспекты законных интересов налогоплательщика
Автор: Ядрихинский Сергей Александрович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: понятие «законные интересы налогоплательщика», несмотря на свою малоисследованность, имеет как теоретическое, так и прикладное значение. Вместе с тем в науке финансового права не только не сложилось однозначного понимания правовой природы данного феномена, но и практически совсем отсутствуют исследования, связанные с процессом его реализации, преодолением юридических препятствий, решением коллизионных вопросов. Целью настоящего исследования является рассмотрение относительно нового понятия «коллизионные законные интересы налогоплательщика» как объекта научного поиска и оценки; анализ процесса легитимации фактического интереса: трансформации его в законный. Методологическую основу исследования составляют различные общие и специальные методы познания явлений правовой действительности. Среди них особо значимыми являются юридико-догматический и историко-правовой методы. Результаты: обосновывается возможность использования в научном обороте понятия «коллизионные законные интересы налогоплательщика», показаны его идеальная и функциональная стороны. Коллизионный статус фактического интереса не означает юридическую невозможность его осуществления в будущем. Реализация коллизионного интереса не является прямолинейным процессом в силу своего амбивалентного характера. Для его воплощения в жизнь необходимы специальные условия, расширяющие границы дозволенного, согласующие притязания налогоплательщика с правовой средой их нахождения. Это зависит как от уровня развития общества и государства в целом, так и от демократизации налогового права в частности. Выводы: на основе синтеза двух конструктов «права» и «интерес» делается вывод о возможности претворения в жизнь даже тех стремлений налогоплательщика, которые изначально не нашли своей поддержки в суде и (или) в налоговом органе.
Законный интерес, субъективное право, налогоплательщик, налоговый орган, дозволение, притязание, коллизия, преобразование интереса
Короткий адрес: https://sciup.org/149130325
IDR: 149130325 | УДК: 336.2 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.3.10
Текст научной статьи Борьба за право, или коллизионные аспекты законных интересов налогоплательщика
DOI:
Теория законных интересов в зависимости от соответствия нормативным предписаниям и (или) сложившейся правоприменительной практике позволяет классифицировать интересы налогоплательщика на неколлизионные и коллизионные. Первые в полной мере соответствуют действующему законодательству о налогах и сборах, эти притязания признаются правоприменительными органами (налоговыми органами, судом) и не встречают каких-либо преград на пути своего осуществления. Законность этих интересов не подвергается сомнению.
Те же интересы налогоплательщика, которые правоприменитель либо законодатель не поддерживают, то есть не наделяют качеством «законных», попадают в разряд коллизионных. Понятие «коллизия» происходит от лат. collisio – «столкновение» и в правовом смысле понимается как столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов [7, с. 283].
В основе коллизионных законных интересов лежит допущение нетождественности права и юридической нормы, права и закона. Оно опирается на исторический опыт человечества, когда закон, отражающий интересы только одного класса или узкой группы лиц, находящихся у власти, выступал средством вплетения в нормативную ткань абсолютно произвольных положений, не имеющих ничего общего с правом. Очевидно, не все законы всегда являются адекватным выразителем права как формы всеобщей справедливости.
Соответственно, из всей совокупности законов или отдельных нормативных положений какая-то их доля может относиться к неправовым. Подтверждением этому является практика органа конституционного контроля, признающая время от времени отдельные юридические нормы не соответствующими Конституции РФ. По верному замечанию судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Жилина, «противоречащий праву закон <...> находится в прямом противоречии с его правоохранительной функцией» [4, с. 8].
Опираясь на различие права и закона, можно выделить ту часть стремлений налогоплательщика, которая по своей сути соответствует требованиям права как всеобщего выразителя общечеловеческих идеалов и ценностей, мерила справедливости, но во временном континууме не отвечает нормативным положениям действующего закона. Либо сложившаяся правоприменительная практика исходит из иного понимания закона. Законными эти интересы представляются только в сознании их обладателя. Правовая среда или пространство, в котором они находятся, отторгают данные стремления налогоплательщика. Таким образом, юридический базис, позволяющий говорить о коллизионных законных интересах как правовом явлении, состоит в широком понимании права, которое может не совпадать в своем объеме с действующими юридическими нормами. В этой парадигме понятие «законность» должно уступить место понятию «правозаконность». Именно «в условиях режима правозаконности, – по верному замечанию К.И. Амирбекова, – человек может вступить “в спор о праве” с самим законодателем, если действующее позитивное право, выраженное в законодательстве, не отражает идею ценности прав человека» [1].
Что же дает надежду на преобразование коллизионного интереса в законный?
Граница между «коллизионным» и «законным» интересом подвижна и не является абсолютной. Очень часто она обусловлена субъективным критерием (мнением компетентного органа), поскольку правообразование и правоприменение – это продукты сознательно-волевой деятельности людей, что делает ее зыбкой, неустойчивой.
Если же носитель коллизионного интереса стремится к признанию его законным, иначе – к справедливости, то он в иеринговском духе обречен на борьбу за эту справедливость, за свой интерес. В основе данной борьбы лежит концептуальная идея о несоответствии субъективных представлений законодателя или правоприменителя о предмете интереса объективному положению вещей или праву. Подобные ошибки (заблуждения) являются результатом неверного, искаженного отражения действительности.
Дело в том, что все предметы, процессы, явления всегда многосторонни, нет предметов, у которых только одна сторона. Сами предметы не обнаруживают себя перед людьми такими, какие они есть. Перед человеком предстают всегда только определенные стороны или свойства предметов или событий. Люди обычно предпочитают замечать и акцентировать внимание на той стороне события, которая им выгодна, признание которой приносит им пользу. Все это в практической деятельности приводит к расхождению субъективного знания о предмете с подлинной его сущностью. Очевидно, односторонние представления о чем-либо нельзя признать истинными, правильными, соответствующими реальной действительности. Одностороннее знание о правовом объекте неполно и относительно, поэтому нередко то, что сегодня нам кажется очевидным, на деле оказывается заблуждением, и наоборот: то, что еще вчера казалось нам невозможным, уже завтра может превратиться в реальность.
Такое противоречивое развитие права отнюдь не дискредитирует его. Напротив, только преодолев противоречия, право самоорганизуясь наделяется свойствами легитимности (от лат. legitimus «согласный с законами, законный, правомерный»), реципрок-тности (от лат. reciprocus «взаимный, взаимодействие») и когерентности (от лат. cohaerens «находящийся в связи», имеется в виду логическая связанность и непротиворечивость).
Как справедливо отмечал А.М. Ларин, «никому не запрещено быть завтра умнее, чем сегодня. Если придет осознание ошибки, найдется и способ ее исправления» [5, с. 54].
Содержание коллизионных интересов
Проблема коллизионных интересов тесно связана с вопросом об их значимости для общества и государства в конкретный момент времени. На наш взгляд, в содержании коллизионных интересов следует выделить их идеальную сторону (идея права или правовое основание) и функциональную сторону в контексте текущих, действующих налоговых отношений.
Первая сторона выражается в представлениях о праве как неком идеальном мериле справедливости, или, иначе, содержит ответ на вопрос, почему притязание налогоплательщика подлежит удовлетворению.
Вторая сторона касается его предназначения, иначе – представления о том, как данный интерес может повлиять на сложившиеся налоговые отношения, какую нагрузку он несет для общества, государства, бюджета и т. д. Здесь содержится вопрос, насколько он необходим в данный момент времени, созданы ли для него условия, вписывается ли он сам в действующую правовую систему.
Интерес может быть правовым, но преждевременным. Вполне возможно, что для его реального воплощения время просто не подошло.
Скажем, с позиции сегодняшнего дня рабство является преступным явлением настолько безусловным и очевидным, что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову идея утверждать обратное. Если бы это своим современникам заявил прогрес- сивный мыслитель Аристотель, являющийся убежденным защитником прав человека, частной собственности и моногамной семьи, один из основоположников концепции справедливости (актуальной и по сей день), то вряд ли он нашел бы у них понимание. Рабство у Аристотеля этически оправданно, оно, по мысли философа, общественно необходимо. «Одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо» [2, с. 15]. Аристотель рабовладельческий строй считал вполне естественным и справедливым.
Исходя из того, что право подвижно, спустя определенное время объективно может возникнуть и иная оценка интереса налогоплательщика.
Генезис коллизионного интереса налогоплательщика в судебной практике
Рассмотрим генезис интереса налогоплательщика в получении справки по лицевому счету налогоплательщика, отражающей реальное состояние расчетов с бюджетом для ситуаций, в которых у налогоплательщика числится задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам, но в силу причин юридического характера ее невозможно взыскать.
Согласно подп. 10 п.1 ст. 32 НК РФ [6] запрашиваемая справка готовится лишь на основании данных информационных ресурсов налогового органа.
Таким образом, налоговый орган на протяжении длительного периода времени может предоставлять сведения о числящейся за налогоплательщиком задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, невзирая на невозможность ее взыскания, что, в свою очередь, будет порождать конфликтную ситуацию.
Предоставление справки по лицевому счету налогоплательщика в таком виде создает существенные препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности и не может не затрагивать законные интересы налогоплательщика в плане получения объективной и полной информации, отражающей реальное состояние расчетов с бюджетом. Данная справка (точнее сведения в ней) очевидно обладает определенной ценностью для налогоплательщика, поскольку отсутствие задол- женности характеризует налогоплательщика как лицо добросовестное, финансово устойчивое, успешное и т. д., и наоборот: наличие задолженности говорит об обратном и может иметь для него негативные последствия. Вышеуказанная справка может являться проводником к достижению налогоплательщиком желаемых благ в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Стремление получить ее продиктовано тем, что данный документ способствует, в частности, привлечению кредита [12], получению лицензии на осуществление определенного вида деятельности [14], участию в конкурсе на размещение государственного заказа [15], реорганизации компании налогоплательщика и т. д.
Утрата налоговым органом возможности принудительного взыскания сумм налогов, пеней, штрафа, то есть непринятие им в установленные сроки надлежащих мер к взысканию, сама по себе не является основанием для прекращения обязанности налогоплательщика по их уплате и, следовательно, для исключения соответствующих записей из его лицевого счета.
Вместе с тем интерес в неуплате такого налога приобретет качество законного, несмотря на то, что сам закон (ст. 44 НК РФ) не предусматривает такого основания прекращение налоговой обязанности. В основе данного интереса лежит посыл об утрате налоговым органом возможности принудительного взыскания данного налога и, соответственно, пеней, штрафов.
Один из виднейших ученых в области финансового права, французский политолог-финансист П.-М. Годме справедливо отмечал, что «налогоплательщик только потому платит налог, что знает о существовании принудительных мер, и в случае отказа платить такие меры будут приняты и его заставят заплатить с излишком» [3, с. 371]. Этот же ученый указывал, что «элемент принуждения настолько важен в понятии налога, что это влечет за собой исключение из налоговой сферы поступлений, не носящих принудительный характер» [3, с. 373].
Исключение соответствующих записей из лицевого счета налогоплательщика возможно только на основании судебного акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, пеней, штрафов в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе в случае отказа в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании этих сумм (подп. 5 п. 3 ст. 44 и подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ).
Пленум ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» [11] аналогично разъяснил, как налогоплательщик может защитить свой интерес: путем подачи в суд заявления о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными ко взысканию и обязанности по их уплате прекращенной.
В дальнейшем Конституционный Суд РФ в Определении от 26.05.2016 № 1150-О [8] разъяснил, что подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ не содержит каких-либо непреодолимых препятствий в реализации возможности признания сумм налога, пени и штрафа безнадежными к взысканию – по инициативе как налогового органа, так и налогоплательщика.
Однако путь к такому итоговому результату оказался достаточно долгим и тернистым.
В 2005 г. Президиум ВАС РФ, отменяя судебные акты нижестоящих судов в части понуждения налоговой инспекции исключить из лицевого счета налогоплательщика суммы недоимки и задолженности по пеням, безнадежные к взысканию (последняя утратила право на их взыскание как во внесудебном, так и в судебном порядке), указал, что наличие в карточке лицевого счета сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, сроки взыскания которых пропущены, не нарушает прав и законных интересов налогоплательщика [13].
То есть аргументы налогоплательщика о значительном снижении возможности по участию в конкурсах, тендерах, в получении кредитов и т. д. не являлись достаточно убедительными для суда.
В 2009 г. тот же Президиум ВАС РФ отказался от своей же позиции. Суд пришел к диаметрально противоположному выводу: в справке необходимо отражать объективную информацию, поэтому наряду со сведениями о задолженности налогоплательщика в документе должно быть указано, что инспекция утратила право на ее взыскание. Президиум ВАС РФ особо отметил, что неполная информация о задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, числящейся за налогоплательщиком, затрагивает его право на достоверную информацию, необходимую ему для осуществления своих прав и законных интересов, в том числе в предпринимательской и (или) иной экономической деятельности [12].
В 2013 г. Пленум ВАС РФ уже категорично указал на обязанность налогового органа немедленно исключать из лицевого счета налогоплательщика записи о задолженности, безнадежной ко взысканию, после вступления в силу судебного акта по любому налоговому делу, указывающего на утрату налоговым органом возможности взыскания налогов, пеней, штрафов, в том числе и в мотивировочной части судебного акта.
На данном примере мы видим, как последовательно менялась позиция суда. Изначально коллизионный интерес налогоплательщика в конечном итоге приобрел статус законного. Произошло это не в последнюю очередь из-за того, что новое видение ситуации – более справедливое, чем прежнее.
Генезис интереса налогоплательщика в позициях фискальных органов
Изменение правовой позиции характерно не только для судов, но и для иных органов: Минфина России, ФНС России.
В силу подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ при документальном подтверждении уполномоченным органом государственной власти факта отсутствия виновных лиц организация вправе признать во внереализационных расходах соответствующий убыток.
При этом НК РФ не содержит указания на то, какими именно документами может подтверждаться отсутствие виновных лиц. Это может быть как постановление о приостановлении следственных действий, так и постановление о прекращении уголовного дела, равно как и любой иной документ.
Однако в 2006 г. Минфин России категорично указал, что учет спорных недостач допустим только при условии вынесения следо- вателем постановления о прекращении уголовного дела [10]. В этом случае налогоплательщику пришлось бы ожидать неопределенно долгое время прекращения уголовного дела. Например, допустимый уголовно-процессуальным законодательством срок производства по уголовному делу по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ – 10 лет. После истечения 10 лет следователь вынесет постановление о прекращении уголовного дела.
Вместе с тем налогоплательщик не должен ставиться в положение, зависимое от эффективности действий соответствующих должностных лиц настолько, насколько это бы являлось непреодолимым препятствием для отражения им в налоговом учете полученных убытков от хищения, с учетом разумной продолжительности уголовного процесса и доступности к правосудию.
Обратное означало бы возложение на потерпевшего, выступающего в налоговом регулировании налогообязанным лицом – налогоплательщиком, неопределенных по срокам чрезмерных ограничений, в том числе (ограничение) права по списанию данной задолженности в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, объективно существующим, лишение которого противоречит нормам налогового законодательства.
Если за все время расследования потерпевший по уголовному делу не получил искомого правосудия, то очевидно, что практика уголовного преследования не безупречна, а перспектива возмещения ему вреда приобретает туманные очертания настолько, что у потерпевшего объективно уменьшается (фактически утрачивается) уверенность в правовом эффекте от расследования в силу неуловимости виновного лица.
Соответственно, налогоплательщик в ситуации затянувшегося уголовного производства в соответствии с требованиями справедливости и разумности должен располагать возможностью списания во внереализационные расходы убытки от хищений, виновники которых не установлены, с моментом вынесения должностным лицом постановления о приостановлении следственных действий как одним из ранних по времени актов, документально подтверждающих факт отсутствия виновных лиц.
Данный подход отражает законный интерес налогоплательщика в более справедливом исчислении налоговой базы; скорейшей допустимости учета этих расходов и, как следствие, уменьшении налогового обязательства налогоплательщика.
В 2012 г. позиция Минфина России изменилась: в качестве соответствующего документального подтверждения стало допускаться и постановление о приостановлении предварительного следствия [9]. Справедливости ради отметим, что на изменение данной позиции повлияла соответствующая судебная практика. Суды изначально рассматривали постановление о приостановлении предварительного следствия допустимым документом для целей ст. 265 НК РФ. Тем не менее это не стало обстоятельством, исключающим налоговые споры.
Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно подытожить: синтез права и интересов дает налогоплательщику надежду на осуществление их в будущем. Опыт предыдущих лет показывает, что идея реализации коллизионного интереса может быть сохранена и при текущих неблагоприятных для этого условиях. Необходима борьба за свой законный интерес. Основываясь на праве, коллизионные интересы претендуют на роль проводников правотворческих и правоприменительных инициатив. И даже если первая попытка реализации не привела к успеху, возврат к этой истории в дальнейшем неизбежен.
Список литературы Борьба за право, или коллизионные аспекты законных интересов налогоплательщика
- Амирбеков, К. И. Трансформация взглядов на понимание законности как правовой категории / К. И. Амирбеков // Российская юстиция. - 2016. - № 4. - С. 2-5.
- Аристотель. Политика / Аристотель; [пер. с древнегреч. С. А. Жебелева]. - М.: АСТ, 2016. - 384 с.
- Годме, П.-М. Финансовое право / П.-М. Годме. - М.: Прогресс, 1978. - 429 с.
- Жилин, Г. А. Соотношение права и закона / Г. А. Жилин // Российская юстиция. - 2000. - № 4. - С. 8-10.
- Ларин, А. М. Всегда ли прав суд, даже если он Конституционный? / А. М. Ларин // Российская юстиция. - 1997. - № 4. - С. 53-54.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3824.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М., 2006. - 944 с.
- Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1150-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Сергея Тимофеевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 4 пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации». - Электрон. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.
- Письмо Минфина России от 06.12.2012 № 03-03-06/1/630 // Нормативные акты для бухгалтера. - 2013. - № 4.
- Письмо Минфина России от 20.01.2006 № 03-03-04/1/52. - Электрон. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации». - Электрон. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 01.09.2009 № 4381/09 по делу № А27-8596/2008-2 // Вестник ВАС РФ. - 2009. - № 11.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 11.05.2005 № 16507/04 по делу № А55-4606/04-6 // Вестник ВАС РФ. - 2005. - № 8.
- Постановление ФАС УО от 10.04.2013 № Ф09-2590/13 по делу № А60-35256/2012. - Электрон. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.
- Постановление ФАС ПО от 02.08.2007 по делу № А57-593/07. - Электрон. дан. - Доступ из СПС КонсультантПлюс.