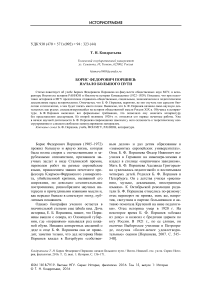Борис Федорович Поршнев: начало большого пути
Автор: Кондратьева Тамара Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья повествует об учебе Бориса Федоровича Поршнева на факультете общественных наук МГУ, в аспирантуре Института истории РАНИОН и Института истории Комакадемии (1922-1929). Показано, что при подготовке историков в МГУ предпочтение отдавалось общественным, социальным, экономическим и педагогическим дисциплинам перед историческими. Отмечается, что Б. Ф. Поршнев, вероятно, не мог изучать там серьезно биологию и психологию, о чем будет писать много позже. Выявлено, что Б. Ф. Поршнев начинал свою научную деятельность как русист, специализирующийся на истории общественной мысли России XIX в. Обучаясь в аспирантуре, Б. Ф. Поршнев выполнил все формальные требования, что позволило ему окончить аспирантуру без представления диссертации. Ко второй половине 1920-х гг. относятся его первые печатные работы. Уже в начале научной деятельности Б. Ф. Поршнева современники замечали у него склонность к теоретическому конструированию и слишком свободное манипулирование материалом.
Б. ф. поршнев, учеба, фонмгу, ранион, аспирантура
Короткий адрес: https://sciup.org/147219478
IDR: 147219478 | УДК: 930
Текст научной статьи Борис Федорович Поршнев: начало большого пути
Борис Федорович Поршнев (1905–1972) прожил большую и яркую жизнь, которая была полна споров с отечественными и зарубежными оппонентами, признанием научных заслуг в виде Сталинской премии, переводов работ на разные европейские языки, присвоением звания почетного профессора Клермон-Ферранского университета, убийственной критики, вызванной его широкими, но довольно сомнительными построениями, разнообразием научных интересов и причудливыми извивами мысли и, как нередко бывало в советскую эпоху, публичным покаянием.
Однако биография ученого остается в значительной степени еще tabula rasa. Дочь историка, Е. Б. Поршнева, пишет, что Порш-невы вышли с севера, из Олонецкой губернии, где «поршнями» назывался род кожаной обуви. Никаких конкретных сведений о деде и отце Б. Ф. Поршнева она не приводит, заметив только, что дед историка Иван Поршнев владел в Петербурге «собствен- ным делом» и дал детям образование в «знаменитых европейских университетах». Отец Б. Ф. Поршнева Федор Иванович выучился в Германии на инженера-химика и владел в столице «кирпичным заводиком». Мать Б. Ф. Поршнева Аделаида Григорьевна «увлекалась педагогикой» и воспитывала четверых детей. Родился Б. Ф. Поршнев в Петербурге. Он с детства учился «рисованию, музыке, декламации, иностранным языкам». К Октябрьской революции родители Б. Ф. Поршнева отнеслись по-разному: отец переворот не принял, мать же, напротив, «вступила в партию большевиков и активно помогала Крупской на ниве педагогики». Отец историка умер в 1920 г. На некоторое время Б. Ф. Поршнев «сбежал из дому» и колесил с бродячим цирком по югу России. В 1921 г., по ее словам, он окончил Выборгское училище в Петрограде, получив «более-менее удовлетворительные» оценки [Поршнева, 2007. С. 545– 548].
Кондратьева Т. Н. Борис Федорович Поршнев: начало большого пути // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 156–171.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
В архиве РАН сохранилось несколько анкет, автобиографий и личный листок по учету кадров, которые историк заполнил, будучи аспирантом Института истории РА-НИОН и Комакадемии (1926–1930), а также устраиваясь на работу в Институт истории АН СССР (1937). В графе «Социальное происхождение», которая была обязательным атрибутом советской кадровой документации, Б. Ф. Поршнев в 1920-е гг. указывал – «интеллигент» 1. Позднее, когда в личных листках появились графы «социальное положение и «социальное происхождение», в первой писал в 1934 г. «сын инженера», во второй – «служащий» 2. В 1937 г. в графе «социальное происхождение» написал «служащий» 3. Графу о дореволюционной классовой и сословной принадлежности в 1924 г. оставил пустой, в графе о владении перед революцией «поместьем, фабрикой или торговлей» написал – «нет» 4. В единственном упоминании о деде сказано: «дед имел звание лич[ного] почетного гражданина» 5. Фронтальный просмотр личных листков в Архиве РАН и Архиве РГБ показывает, что Б. Ф. Поршнев позиционировал себя, как сын инженера и педагога 6.
В своей автобиографии, написанной во время пребывания в аспирантуре Института истории РАНИОН (1926–1930), Б. Ф. Порш-нев пишет, что обучался в Выборгском коммерческом училище, «позднее советской трудовой школе», которую окончил, правда, в 1922, а не в 1921 г. Позднее, заполняя личные листки в 1933 и 1934 гг., дважды писал, что проучился 7 лет (1916–1922) в «15-й советской школе» 7. Известно, что Выборгское коммерческое училище в 1919 г. было преобразовано в 157-ю трудовую школу, а 15-й трудовой школой стало бывшее Тенешевское училище 8 [Иванов, 2010. С. 123]. Из этих двух записей следует только то, что он действительно окончил школу в 1922 г., но вопрос о том, какую, до конца остается непроясненным. Весьма вероятно, что, поступая в аспирантуру, Б. Ф. Поршнев по каким-то соображениям хотел скрыть, что он учился в Тенешевском училище, и указывал менее респектабельное Выборгское коммерческое училище.
В Октябрьской революции Б. Ф. Порш-нев никакого участия не принимал, не состоял никогда ни в комсомоле, ни в партии большевиков, ни в других партиях, не служил в армии, хотя и считался военнообязанным рядового состава. С 1924 г. Б. Ф. Порш-нев являлся членом профсоюза работников просвещения 9.
В 1922 г. Б. Ф. Поршнев становится студентом 1-го Петроградского государственного университета по общественно-педагогическому отделению факультета общественных наук (ОПО ФОН) и, из-за переезда семьи, сразу же переводится на аналогичный факультет в 1-й МГУ 10. ОПО ФОН в 1-м МГУ возникло в 1919 г. на основе преобразованного исторического и юридического отделений. ФОНу, куда принимали даже лиц без среднего образования, предписывалось «распространять <…> идеи научного социализма и материалистического мировоззрения во всех областях обществоведения» и переработать учебные планы в соответствии с политическими переменами в обществе [Сборник декретов…, 1919. С. 16]. В. П. Волгин, декан ФОН (1921) и ректор МГУ (1921– 1925), так определил приоритеты в деле подготовки историков: «Основным циклом исторического отделения должен быть историко-педагогический цикл» [Лагно, 2009. С. 299]. В 1925 г. комиссия Наркомпроса достаточно высоко оценила ФОН 1-го МГУ в плане подготовки марксистских кадров обществоведов, что, подчеркнуто, отличало его от физико-математического и медицинского факультетов («от которых на пушечный выстрел несет средневековьем») 11.
Для идеологически правильной подготовки студентов к преподаванию на ФОН массово стали привлекать бывших участников революционного движения (не обязательно большевиков), разделяющих маркси- стскую идеологию, и изгонять старых профессоров. 28 февраля 1924 г. комиссия по реорганизации ФОН констатировала, что на бывшем юридическом факультете и историческом отделении историко-филологического факультета первоначально преподавала «сплошь антисоветская профессура», а спустя пять лет из 260 профессоров и преподавателей (за исключением отделений языка и литературы и археологии) «71 % составляли коммунисты и марксисты (коммунистов – 100 человек) и 29 % оставались беспартийными». В итоге резко сократилось преподавание специальных академических дисциплин, которые подменялись политизированным марксистским обществоведением. Кроме того, было решено отказаться от лекционных курсов в пользу самостоятельной работы студентов в семинариях и семинарских кружках 12.
По окончании ФОН студенты должны были сдавать государственные экзамены, а также писать и публично защищать под руководством профессоров «квалификационные работы» 13. Для всех выпускников ФОН в 1925 г. обязательными государственными экзаменами были «Политическая экономия» и «Исторический материализм», помимо них каждое отделение сдавало еще три собственных экзамена по специальности. Для ОПО такими дисциплинами стали: «Педагогическая тема», «История России XIX и XX веков», «История Западной Европы XIX и XX веков» 14. Экзамены по «истмату» и «политэкономии» сдавали в январе 1925 г. В списках успешно их сдавших фигурирует фамилия будущего известного историка Крестьянской войны в Германии Моисея Менделевича Смирина, который, однако, «не выдержал» испытание по некоему, не названному, «специальному предмету» 15. Из университета Б. Ф. Поршнев выпустился, как он пишет, осенью 1925 г., добавляя, что «дипломная работа еще не сдана» 16. В своих воспоминаниях Е. Б. Поршнева рассказывает о семейном подстаканнике с характерной гравировкой: «Боречка кончил университет 19-Х-25» [2007. С. 549].
Сохранившиеся учебные планы ОПО ФОН убеждают, что в них преобладали общественные, социальные, экономические и педагогические дисциплины. Хотя ОПО было преемником исторического отделения, специальные исторические дисциплины – палеография, дипломатика, сфрагистика и пр. – в учебном плане отсутствовали. Нет в нем и древних языков. Новый иностранный язык упомянут спорадически, и на нем планы не акцентируются. О качестве обучения на ОПО ФОН иностранным языкам нельзя сказать что-то определенное [Кондратьева, 2014].
Возможно, из-за скудости данных об учебе Б. Ф. Поршнева в университете его биография 1922–1925 гг. подверглась некоторой мифологизации. Отчасти к этому руку приложил сам Б. Ф. Поршнев. На излете жизни, когда его имя прочно ассоциировалось с франковедческими штудиями, работами по международным отношениям, проблемами общественной мысли, политэкономически-ми построениями, историко-психологическими репрезентациями и реконструкциями начал человеческой истории, он писал: «Еще в семье от отца-химика я получил обучение естествознанием. А початки мышления неискоренимы на всю жизнь. В Московском университете, в отделении, где я был студентом, тогда были соединены две профилирующие специальности: психология и история; но занятия психологией под руководством профессоров Г. И. Челпанова и К. Н. Корнилова, по их совету, потребовали еще и третьего профиля: я стал уделять время параллельным занятиям на биологическом факультете» [Поршнев, 1968. C. 124].
Следуя за Б. Ф. Поршневым, О. Т. Вите полагает, что будущий исследователь народных движений и проблем палеопсихологии на ОПО ФОН 1-го МГУ изучал историю и психологию. Кроме того, считает О. Т. Вите, Б. Ф. Поршнев обучался на биологическом факультете МГУ. Получив в середине 1920-х гг. диплом историка, «Поршнев, – пишет О. Т. Вите, – допускает роковую ошибку <…> он не стал добиваться получения второго диплома – об окончании биологического факультета» [2007. С. 578–579].
Должны ли мы слепо полагаться на утверждения Б. Ф. Поршнева, сделанные десятилетия спустя и, вероятно, мотивированные другими, может быть, сугубо практическими соображениями? Думается, что нет. Они, как и всякие утверждения, нуждаются в дополнительной верификации.
В 1926 г. Б. Ф. Поршнев писал о своей учебе в 1-м МГУ и о своей жизни так: «Главным предметом занятий в Университете являлись теория марксизма (исторический материализм и политическая экономия), общие курсы Новой истории и история социализма. В апреле 1924 г. будучи на втором курсе, ввиду тяжелого материального положения (до этого жил на средства брата), принужден был взять работу секретаря в редакции журнала “Власть Со-ветовˮ, издававшегося при Коммунистической академии. Работа эта, отнимавшая не менее 6–7 часов ежедневно, не оставляла более времени и сил для какой-либо другой общественной работы, так же как и для более углубленных, как того хотелось, университетских занятий. В апреле 1925 г., с образованием при Ком[мунистической] академии Института советского строительства (ИСС), был принят в число его научных сотрудников» 17. Этот пассаж позволяет утверждать с большой долей вероятности, что никаких занятий по биологии студент Б. Ф. Поршнев не посещал. Препятствием к этому являлась необходимость зарабатывать на хлеб насущный. В ноябре 1924 г. в графе анкеты «семейное положение, из кого состоит семья и сколько неработоспособных членов» он написал: «Мать, сестра и брат. Мать и сестра не работают» 18. Мать Б. Ф. Поршнева, как он указал, несколькими годами позднее «нетрудоспособна» 19. Е. Б. Поршнева замечает, что до 1924 г. основное бремя по содержанию семьи нес старший брат Георгий (Овка), у которого в это время «начались передряги в жизни», что заставило ее отца устроиться на работу в журнал «Власть Советов», издающийся при Коммунистической академии [Поршнева, 2007. С. 548]. На самом деле Б. Ф. Поршнев начал трудовую деятельность несколько раньше. Поступая в 1924 г. на службу в Коммунистическую академию, он писал, что до этого уже работал секретарем редакции журнала «Октябрь мысли» и у него имеется трудовая книжка 20. Итак, для серьезных занятий биологией у Б. Ф. Поршнева просто не было досуга. А если бы он даже был, то будущий историк никак не мог получить диплом по биологическому факультету, ибо биологический факультет открылся в МГУ только в 1930 г. 21
Поскольку ОПО ФОН готовило педагогов, там преподавали, как видно из учебных планов, курсы «Анатомия и физиология», «Рефлексология», курсы по гигиене и, возможно, какие-то еще [Кондратьева, 2014]. Гипотетически любознательный Б. Ф. Порш-нев мог посещать какие-то курсы по биологии, антропологии и физиологии человека по кафедре антропологии, которая действовала на естественном отделении 1-го МГУ 1920-х гг. Эта кафедра существенно отличалась от ее современных аналогов, на которых, как правило, преобладают либо философы, либо культурологи. Основавший ее А. Н. Анучин рассматривал антропологию, скорее, как естественно-научную дисциплину, тесно связанную с географией, естественной историей и народоведением [Энциклопедический словарь…, 2004. С. 521; Левин, 1947. С. 3, 7]. Мог посещать, но никак не мог получить здесь диплом.
Опубликованные в последнее время данные о состоянии психологического образования в 1-МГУ в 1922–1925 гг. позволяют поставить под сомнения слова Б. Ф. Поршне-ва, написанные на излете жизни относительно его плодотворных занятий психологией. К тому же упоминаемые Б. Ф. Поршневым Г. И. Челпанов и К. Н. Корнилов были антиподами. Создавший в МГУ Психологический институт проф. Г. И. Челпанов, как «идеалист» и «метафизик», подвергался с 1922 г. давлению и критике со стороны марксистов, включая бывшего своего ученика К. Н. Корнилова. В конце 1923 г. Г. И. Чел-панов был вынужден оставить университет, а психология подверглась «перестройке» в марксистском духе. Сам проф. Г. И. Челпа-нов жаловался на плохие способности, низкую мотивацию студентов, которых ему пришлось обучать в начале 1920-х гг. и которые в массе своей «служат» (как, вероятно, студент ОПО ФОН Б. Ф. Поршнев, добавим мы) в разных местах, а не учатся. С 1925 г. преподавание психологии начало осуществляться на только что созданном в результате реорганизации ФОН этнологи- ческом факультете, который окончил Б. Ф. Поршнев [Ждан, 1993. С. 81–84]. Но ситуация, при которой человек, работающий по «6–7 часов ежедневно» секретарем редакции и готовящийся к получению диплома, одновременно усиленно посещает занятия по психологии, трудно представима и почти невероятна.
Б. Ф. Поршнев молчит о том, что на ОПО велась серьезная подготовка даже по истории. Ему, вероятно, не читали курсов древней и средневековой истории стран Запада, не говоря уж о Востоке. Не получил Б. Ф. Поршнев, по-видимому, никаких знаний и по археологии и этнографии, поскольку их с 1922 г. преподавали на отдельно существующих этнолого-лингвистическом и археологическом отделениях ФОН [Летопись…, 2009. С. 15–16]. Этнологический факультет, который он после преобразования ФОН окончил, имел четыре отделения: историко-археологическое, этнографическое, литературы и изобразительного искусства [Летопись…, 2009. С. 16–17; Энциклопедический словарь…, 2004. С. 526–527]. Но это не дает основания полагать, что Б. Ф. Поршнев в последний год учебы усиленно изучал материальную культуру. К тому же в документах о получении высшего образования у выпускников этнографического факультета 1925 г., по-видимому, вписывали наименование того отделения, на которое они поступили изначально. Во всяком случае, в выписанном Б. Ф. Поршневу 22 июля 1926 г. официальном удостоверении за № 2114 читаем: «Представитель сего Поршнев Борис Федорович, родившийся в 1905 г., состоял студентом общественно-педагогического отделения этнологического факультета 1-го М. Г. Ун-та с 1922 г. по 1925 г. За этот период выполнил учебный план названного Отделения и выдержал установленные испытания» 22.
По-видимому, между работой секретарем в журнале «Октябрь мысли» и поступлением на работу в журнал «Власть Советов» Б. Ф. Поршнев, числясь студентом 1-го МГУ, находился какое-то время без работы. Сохранились два официальных документа, свидетельствующие о том, что до апреля 1924 г. Б. Ф. Поршнев состоял на учете на бирже труда, которая и направила его на работу секретарем в журнал «Власть Советов» Коммунистической академии. Трудиться он начал 5 апреля 1924 г. Сначала, как сказано, секретарем редакции журнала «Власть Советов» (апрель 1924 – апрель 1925 г.), а затем научным сотрудником еще только создаваемого Института советского строительства (далее – ИСС) (апрель 1925 – октябрь 1926 г.) 23.
В сентябре-октябре 1925 г. Б. Ф. Порш-нев перешел на работу в только созданную Историческую комиссию ИССа для изучения истории Советов. Сначала он «изучал Союз Коммун Северной области». Затем начал исследовать под руководством проф. С. А. Пионтковского «Историю Октябрьской революции» 24. С ортодоксальным марксистом С. А. Пионтковским Б. Ф. Поршнев познакомился, вероятно, еще на ФОН 1-го МГУ. С. А. Пионтковский постоянно последними словами обличал старую профессуру русской школы, не особенно при этом жалуя и своих соратников-марксистов. Историческую комиссию он именовал «форменным зверинцем», ни одно заседание которой «не обходилось без ссор и скандалов» [Дневник историка…, 2009. С. 151]. Работа в комиссии, отмечал Б. Ф. Поршнев, «носит архивно-исследовательский характер, и результаты ее вскоре будут опубликованы» 25.
Неизвестно, появилась ли упоминаемая им публикация. Но можно смело утверждать, что если что-то и было напечатано, то без его авторства. А под именем «Б. Ф. Поршнев» в 1926 г., в «Библиотечке работницы и крестьянки», имевшей специальную серию «Делегатка-работница», вышла в свет брошюра «Горсоветы и работница», которая спустя два года была переиздана с минимальной правкой. Скорее всего она была вызвана к жизни поручением или заказом, полученным ИСС от партийных или советских органов после совещания ЦИК, направленного на оживление работы Советов, а также после издания по результатам этого совещания специального закона «Положение о городских Советах». Брошюра должна была поднять, как тогда говорили, уровень сознательности трудящихся женщин и женщин-домохозяек. Двадцатилетний молодой человек выпустил в свет пропагандистский и одновременно дидактический материал. Он, похоже, искренне пытался убедить читателя, что до революции в городских думах «заседала городская знать, капиталисты и чиновники», которым «до рабочих окраин не было почти никакого дела». Советы, возникшие после революции, являясь властью самих трудящихся, «органом власти пролетариата», должны по-настоящему заботиться о городском хозяйстве, коммунальных службах, бюджете и пр. Особые надежды в деле оживления Советов автор (видимо, вслед за организаторами совещания) возлагал на «работницу и крестьянку». К сожалению, отмечает Б. Ф. Поршнев, многие женщины относятся к выборам в Советы и работе в них, как к «повинности», забывая, что случайный человек «не будет стараться улучшить жизнь работниц и домашних хозяек» [Поршнев, 1928. С. 1–12].
Видимо, весной – в начале лета 1926 г. Б. Ф. Поршнев принимает решение о поступлении в аспирантуру Института истории Российской ассоциации научных институтов общественных наук (РАНИОН). О мотивах своего поступления он пишет следующее: «Считаю, что работа в Институте советского строительства не дает мне возможности достаточно повышать свою научную квалификацию, так как имеет чисто исследовательский, а не научно-подготовительный характер, желал бы перейти в Институт истории РАНИОН для специализации по вопросам новой и новейшей истории и истории социализма» 26. Рекомендации для поступления ему дали С. А. Пионтковский (27 июня 1926 г.) и Г. Михайлов (16 июля 1926 г.). Последний был профессором 1-го МГУ и членом президиума ИСС. Пионтковский отмечал способность Б. Ф. Поршнева работать с «сырым архивным материалом», которую он проявил, занимаясь «вопросами истории Октябрьской революции в ряде архивов Москвы». Вероятно, роль С. А. Пионтковского в судьбе Б. Ф. Поршнева при поступлении в аспирантуру была более значительной и не ограничилась только написанием рекомендации. Сам он пишет в воспоминаниях о том, что Б. Ф. Поршнева ему «удалось протащить в РАНИОН и привлечь к научной работе» [Дневник историка…, 2009. С. 157]. Г. Михайлов особенно оценил работу Б. Ф. Поршнева в ходе организации ИСС. Оба рекомендателя обратили внимание на хорошую марксистскую подготовку претендента, его познания в области общественных наук и способность к научному анализу 27. Была также рекомендация от ИСС, текст которой не сохранился, хотя имеются о ней отдельные упоминания. В аспирантуру Б. Ф. Поршнев поступал и потом учился по секции Новой русской истории. При поступлении он сдал специальную работу “К истории Бакунина и бакунизмаˮ, оцененную А. Д. Удальцовым на «5». Известный в будущем медиевист и член-корреспондент АН СССР заметил в отзыве: «Работа т. Порш-нева “К историографии Бакунина и бакунизма” (132 стр.) представляет собой солидную работу по этому вопросу <…>. Автор обнаруживает уже сложившиеся навыки к научно-исследовательской работе и умелое пользование методом исторического материализма (подчеркнуто красным карандашом. – Т. К.)» 28. Кроме того, он сдал три вступительных экзамена («марксистский минимум»): исторический материализм – оценка «3+», политическая экономия – «4» и методология – «4» 29.
Таким образом, начало научной карьеры Б. Ф. Поршнева было связано с изучением работ и деятельности М. А. Бакунина в контексте истории общественной мысли России второй половины XIX в. К сожалению, в архиве историка не сохранилось ни одной рукописи по данной теме. Однако в папке, озаглавленной «Материалы по истории Франции (выписки, заметки, библиография) 1920–1930-е гг.», нам посчастливилось обнаружить ряд выписок 30, сделанных Б. Ф. Поршневым, которые позволяют судить о векторе движения его исследовательской мысли и даже о содержании вступительной работы.
Фрагменты дают возможность определить структуру текста, который, по-види- мому, содержал разделы о биологическом происхождении человека и его социальном развитии и становлении, о государстве, о месте и роли науки в обществе, об истинности материалистического и ложности идеалистического подхода. Автор выписывал цитаты, которые легко могли показать знакомство М. А. Бакунина с марксизмом и даже их определенную близость. Кроме того, Б. Ф. Поршнев обращает внимание на сферу идей, которая у него одновременно является по-марксистски отражением вещей и важным, побуждающим к борьбе или даже революции фактором [Кондратьева, 2012].
Итак, осенью 1926 г. начался новый плодотворный период в жизни будущего историка. Аспирантура в Институте истории РАНИОН была рассчитана первоначально на три года, после чего предполагалась защита диссертации. Аспиранты «зачислялись в одну из секций соответственно избранной специальности» и должны были «в различных семинариях проработать» и написать восемь объемных работ: одну тему по политической экономии, одну – по историческому материализму и шесть тем по истории и этнологии. На старших курсах предполагалась производственная практика в вузах или научно-исследовательских учреждениях. В конце академического года Коллегия Института оценивала деятельность аспирантов и принимала решения об их переводе на следующий курс или об отчислении 31. Персональное руководство диссертационной работой аспиранта осуществлялось, вероятно, секцией, а не отдельным ее членом. На секциях утверждались годовые планы работы и заслушивались работы аспирантов. Кроме того, аспиранты изучали иностранные языки. Ко второму году обучения аспирант должен был владеть двумя иностранными языками 32. Учеба в аспирантуре Института истории РАНИОН требовала напряжения. Некоторые аспиранты проводили, причем не по собственным секциям, настоящие исследования, которые затем публиковались 33. Аспиранты занимались общественной работой.
Понятно, что не все аспиранты могли работать с одинаковой интенсивностью, у них был разный уровень базовой подготовки. Они выражали озабоченность на аспирантских собраниях. Здесь звучали пожелания отказаться от зачетов и экзаменов, определить каждому из числа действительных членов Института руководителя по специальности, не проводить проверку знаний по языкам и «для разработки диссертации отвести один год сверх трехлетнего пребывания аспиранта в Институте». Обучение в аспирантуре необходимо было закончить написанием и защитой диссертации, которая «должна быть самостоятельным научным исследованием на новую тему, независимо от представленных докладов по специальности» 34.
Б. Ф. Поршнев регулярно присутствовал на заседаниях секции Новой русской истории: в 1927 г. посетил 5 заседаний (21 марта; 4, 18 апреля; 18 ноября; 9 декабря), в 1928 г. – 6 заседаний (10, 18 февраля; 26 марта; 27 апреля; 14 мая; 11 июня) 35. У секции было три научных направления: история экономического развития России в XIX– XX вв.; история рабочего и крестьянского движения; история общественной мысли. Его общая специальность обозначена как «русская история», узкая специальность – как «экономическая история и история общественной мысли» 36. Аспирантура Б. Ф. Порш-нева должна была по одному документу закончиться 1 мая 1929 г., а диссертация защищена до 1 октября 1929 г., а по другому – 1 октября 1929 г. и защита диссертации должна была пройти до 1 января 1930 г. 37
Capitulare de villis», и будущим известным этнографом С. А. Токаревым, который на той же секции и в том же году выполнил работу и сделал доклад «Торговля южно-английского манора в XIII–XIV вв. по приказчичьим отчетам». Оба доклада позднее были опубликованы. См. подробнее: [Кондратьев, Кондратьева, 2007. С. 77, 79–80].
Об учебе и работах Б. Ф. Поршнева можно судить по сохранившимся учетным аспирантским карточкам и некоторым другим документам. Судя по примерному учебному плану за 1926/27 уч. г., написанному Б. Ф. Поршневым собственноручно, к 10 октября 1927 г. он уже написал и прочитал доклад по политической экономии «Цены производства», а также работал над темой по историческому материализму «Социальная методология Макса Вебера» и над двумя темами по специальности: 1) «Основные черты славянофильства» 38, 2) «Внешняя политика России в XIX веке». Кроме того, он предлагал утвердить ему третью тему по специальности, которая бы касалась особенностей развития капитализма в России, по Древнему миру – «О главнейших теориях экономического развития», по Средним векам – «О сущности и генезисе феодализма и городского строя» и по Новой истории – «тему из истории философско-общественной мысли в Германии до 48 года (младогегельянство)». Вероятно, предложенные аспирантом темы подверглись позднее коррекции 39. Не исключено, что концентрация внимания на XIX в. казалась избыточной. Девятого декабря 1927 г. на заседании секции Новой русской истории ему предложили «взять одну из тем <…> по истории России до XIX в.; уточнить тему по средневековой истории» 40.
Руководитель семинара по политэкономии Позняков отметил, что работа Б. Ф. Поршнева «хорошая» 41.
В 1927 г. Б. Ф. Поршнев сосредоточил свои силы на написании доклада для семинара В. И. Невского о славянофильстве. 26 сентября 1927 г. Б. Ф. Поршнев писал, обращаясь в Коллегию института истории, что эта его работа будет иметь 4 главы, первая из которых, составляющая «около 2-х печатных листов», уже сдана руководителю. Глава будет прочитана в семинаре В. И. Невского в качестве доклада 42. Остается неясным, когда и в каком виде доклад был сдан или зачитан автором. С одной стороны, в карточке аспиранта, которая велась во время пребывания Б. Ф. Поршнева в аспирантуре и которая в изрядной части осталась незаполненной, записано В. И. Невским: «Доклад: “Основные черты славянофильстваˮ. Доклад разработан интересно и оригинально» 43. В отзыве от 31 октября 1927 г. о работе своего семинариста В. И. Невский отмечал «большую эрудицию автора <…> в вопросах русской общественной мысли и революционного движения. Решение задачи, данное в теме, оригинально и талантливо <…>. Считаю работу т. Поршнева достойной не только (подчеркнуто в обоих случаях В. И. Невским. – Т. К.) зачета в семинарии, но и прочтения и защиты в секции» 44. Из чего можно сделать вывод о том, что какой-то окончательный текст в октябре руководителем семинара был получен. С другой стороны, 26 ноября 1927 г. В. И. Невский сообщал Коллегии института, «что т. Поршнев семинарскую работу “Славянофильские черты народничестваˮ подготовил уже в некоторой ее части, хотя и не закончил. Работа обещает быть интересной. В данный момент в черновом виде работа закончена почти целиком» 45.
Дополнительный свет на работу аспиранта Б. Ф. Поршнева за 1926–1927 гг. проливает его отчет, написанный 18 сентября 1928 г., в котором он сообщал, что доклад «“Основные черты славянофильстваˮ (первоначальная тема “Черты славянофильства в народничествеˮ) – для семинара т. Невского и секции Новейшей (так в тексте. – Т. К.) русской истории, будет зачитан только через 2–3 недели. <…>. Причины такого запоздания этого доклада лежат отчасти в объективных условиях работы прошлого года: позднее начало работы семинара В. И. Невского. Совмещая к тому же работу с полит-экономическим семинаром, я вынужден был разорвать работу над славянофилами на две части, выкроив между ними два месяца для спешной работы над докладом “Цена произ-водстваˮ. Главная же причина носит объективный характер. Это – ряд непредвиденных мною трудностей темы и затруднений методологического порядка, которые и заставили меня в процессе работы произвести ука- занные значительные изменения темы. Сюда же надо прибавить ограниченное количество источников и материалов этой темы, особенно в ее новой расширенной постановке <…>. Для работы о славянофилах главной проработанной литературой являются сочинения Хомякова, Кириевского, Аксаковых, менее – Самарина, Данилевского, Леонтьева, Герцена, отчасти – Лаврова, Михайловского, Бакунина, Кошелева, Григорьева, Вл. Соловьева и др. Проработана частично литература, близкая к славянофильству, конца XIX – XX вв.: Разумов, Страхов, Ильин, Добрынин и др. Кроме того, прочитана некоторая литература по истории России в XIX в.» 46.
В учетной карточке аспиранта записано, что Б. Ф. Поршнев в 1927 г. выполнил следующую огромную по объему работу, а именно: 4 темы по специальности – «Основные черты славянофильства» (декабрь 1927 г.), «Русская внешняя политика в первой четверти XIX в.» (декабрь 1927 г.), «Социальные идеи Руссо» (декабрь 1927 г.), «Принципат Августа (Историография)» (декабрь 1927 г.) – и одну работу по политической экономии «Цены производства» (май 1927 г.) 47. Можно, наверное, с осторожностью признать, что к декабрю 1927 г. Б. Ф. Поршнев мог закончить в какой-то части свое исследование о славянофильстве, но гораздо труднее поверить в то, что он к этому же времени выполнил работу о внешней политике России XIX в. и написал текст о Руссо, который не собирался готовить еще 2,5 месяцами ранее. Объяснить обнаруженные несоответствия можно, думается, тем, что учет в Институте истории был, видимо, поставлен неважно, формальными требованиями нередко пренебрегали, а карточки заполнялись, как говорится, «по факту», т. е. позднее установленных сроков, может быть, даже перед очередной официальной ревизией или проверкой. Известно, что Институт истории РАНИОН в конце 1929 г. подвергся преобразованию и был переподчинен Коммунистической академии. Возможно, в ходе кампании по реорганизации Института истории производилось составление недостающих документов. Имеются и другие свидетельства в пользу такого предположения. Например, в той же учетной карточке проставлена тема по историческому материализму «Методология М. Вебера и марксизм», которая якобы была выполнена, как здесь помечено, в мае 1928 г. 48 Однако сам аспирант Б. Ф. Поршнев уже 18 сентября 1928 г. писал о том, что ожидает выполнение этого доклада для семинара А. Д. Удальцова в конце 1928 г. 49 В январе 1929 г. Б. Ф. Порш-нев отчитывался перед Коллегией института и говорил, что его доклад «Методология М. Вебера и марксизм» выполнен 50.
В 1926–1927 гг. Б. Ф. Поршнев приступил также к самостоятельному изучению немецкого языка и участвовал в семинаре В. И. Невского в прениях по докладу «Положение горнозаводской промышленности и рабочих в 70-х гг. XIX в.» 51. Иногда он находил время посещать заседания других секций. Пятнадцатого апреля 1927 г. Б. Ф. Поршнев присутствовал на чтении доклада директора Института истории акад. Д. М. Петрушевского «Городское хозяйство и его идеология» 52.
В 1927/28 уч. г. работа Б. Ф. Поршнева ограничилась только написанием доклада «Методология М. Вебера и марксизм», которая была зачтена руководителем семинария по историческому материализму А. Д. Удальцовым. Последний указал: «Доклад хороший. Подготовка достаточная» 53. При работе над текстом выступления Б. Ф. Поршнев использовал «непереведенные» труды немецкого социолога и историка, чтобы усовершенствовать знание языка. Помимо упомянутого, Б. Ф. Поршнев сообщает, что он много читал Гегеля и посещал по Гегелю специальный семинар, анализировал марксистскую периодику, изучал российскую и западную историческую литературу, приступил к изучению древнерусского языка 54, а также «участвовал в обсуждении докладов Маркелова, Токарева, Гайсановича и Кошелева» 55. Помимо немецкого, в 1927/28 уч. г. Б. Ф. Поршнев изучал французский язык. Преподаватель Потоцкая отмечала его «безукоризненную» посещаемость и «вполне удовлетворительные» знания и навыки . В 1927–1928 гг. аспирант Института истории РАНИОН Б. Ф. Поршнев был «профу-полномоченным», а в 1928 г. являлся редактором институтской стенной газеты 57. Это была его общественная деятельность.
В июне 1928 г. работа Б. Ф. Поршнева в институте была признана удовлетворительной. При этом ему рекомендовали «обратить внимание на необходимость выработки марксистской методологии (подчеркнуто карандашом. – Т. К. ) на конкретном историческом материале» 58.
На рубеже 1928–1929 гг. у Б. Ф. Поршне-ва, как кажется, возникли проблемы с выполнением учебного плана. 12 января 1929 г. (т. е. в последний год его пребывания в аспирантуре) он еще только просил Коллегию института утвердить темы трех его докладов, а именно: «Русская внешняя политика в первой четверти XIX в.», согласованную с С. А. Пионтковским, «Социальные идеи Руссо», согласованную с В. П. Волгиным, «Принципат Августа в историографической традиции», согласованную с П. Ф. Преображенским. Последнюю он здесь же предлагал заменить темой по этнографии «Социальная природа шаманства у якутов» 59.
Переписка за 1928 г. Е. Ф. Поршневой, сестры Б. Ф. Поршнева, с известным в недалеком будущем режиссером М. И. Роммом, который тогда был призван в армию и проходил в Иркутске годичные курсы комсостава, дает основание судить о повседневной жизни семьи Поршневых и об их материальном достатке. Письма сообщают, что новый 1928 г. Екатерина Поршнева вместе с младшими братьями «Борей и Митей» встречала в «Питере», где семья провела пять дней. В феврале из Америки вернулся старший брат Овка, который привез с собой «двух флоридских аллигаторов, 3 черепахи <…> 4 чемодана с книгами и фотографиями, красную кофту с вязанным поясом Борису, кожаную подушку с изображением индейца». К концу февраля 1928 г. «Овка омоско-вился вконец, хотя рассказывал об Америке еще много». Помимо трех братьев и сестры с семьей жила их мать, у которой было отдельное жилье «на Остоженке». Екатерина
Федоровна жалуется, что ей приходится обслуживать трех мужчин. Она пишет: «Стою в очередях, мою посуду, стряпаю и ругаю мальчишек за антиобщественные инстинкты вроде кидания окурков и гряз[ных] нос[о-вых] платков на пол, поедания рыбы при помощи вилки и тарелки, кот[оторые] мне потом мыть приходится, выливания в умывальник старого чая, от которого засоряется водопровод и пр[очие]. Впрочем, все это относится только к Борьке и Мите, Овка почти безупречен». В последний день масленицы, 21 февраля 1928 г., «мы ели блины, пили водку <…> c лимонными корочками <…> философствовали, долго и бурно ругались о математике (математику, особенно, ругали Санька 60 и Борис, а мы с Митей ругали их, потом стали ругать марксизм, пока Ида 61 не рассердилась и не предложила нам заняться чем-ниб[удь] вроде биологии. Мы быстро согласились и стали спорить о том, какая разница между амфибиями <…>». На свой день рождения, 7 марта (22 февраля) 1928 г. Б. Ф. Поршнев получил в подарок «Декамерон» Боккаччо издательства «Aca-demia» и «дюжину тарелок», вечером семья отправилась развлекаться в цирк, а на следующий день собиралась пойти к «Мейр-хольду на “Горе от умаˮ». Девятнадцатого мая 1928 г. Е. Ф. Поршнева замечала, что она с братом Борисом ежегодно проводит по месяцу в Крыму. Письмо писалось в поезде, на котором они с Борисом ехали искать дачу, как возможную альтернативу Крыму. К письму Е. Ф. Поршневой есть приписка рукой Б. Ф. Поршнева с автографом: «Дорогой Мурочка 62, пишу пару теплых слов. Мы сейчас едем с Катей в Борвиху искать дачу. Не кляни меня, родная, что я долго не пишу, зашился с докладом. Прости, друг, и прими мою нежность. Б. Поршнев» 63. Воспроизведенные детали повседневной жизни показывают, что если семья Б. Ф. и Е. Ф. Поршневых испытывала нужду, то к 1928 г. она отступила. Поршневы имели возможность путешествовать, отдыхать в Крыму, устраивать застолья. Письма Е. Ф. Поршневой полны оптимизма, молодого задора, легкой иронии. В каждой их строчке бьется жизнь только вступающих в жизнь молодых, веселых, энергичных людей. Отметим, что в молодости, оказывается, прослывший затем ортодоксальным марксистом Б. Ф. Порш-нев, мог и поругивать марксизм.
Удивительно, но этот здоровый и исполненный радости молодой человек спустя полгода сказался тяжело больным. Одиннадцатого февраля 1929 г. в комиссию по учету академической успеваемости аспирантов он обратился с просьбой о предоставлении 3-месячного отпуска и принес справку, выданную ему диспансером Государственного научного института невропсихиатрической профилактики, что он «страдает резким истощением центр[альной] нервной системы», ему «необходим полный покой и отдых от умственной работы в течение 2–3 месяцев» 64.
Следует отметить, что ни в одном документе нам не удалось обнаружить ни темы диссертационного исследования, ни упоминаний о написании диссертации. В карточках аспиранта и ведомостях есть соответствующие графы, но все они остались пусты. В протоколе совещания диссертантов от 16 апреля 1929 г. упомянут Б. Ф. Поршнев и еще 10 фамилий аспирантов, оканчивающих к 1 января 1930 г. институт без защиты диссертаций 65. Здесь же можно встретить написанный от руки рабочий документ без даты, озаглавленный «Предполагаемый срок защиты диссертаций» с длинным перечнем фамилий, в котором напротив фамилии «Поршнев» стоит дата: «1/1 – 30», затем перечеркнутая. Вместо нее вписано: «Находится в отпуске по болезни» 66.
Видимо, отпуск по болезни, но может быть, и другие факторы привели к тому, что связь Б. Ф. Поршнева и Института истории в 1929 г. ослабла. П. Ф. Преображенский отметил, что Б. Ф. Поршнев посетил только три его семинара, а В. И. Невский – 6 из 20 67.
Предоставленный отпуск, по-видимому, не приводил автоматически к отсрочке выполнения учебного плана. Двадцатого мая 1929 г. Б. Ф. Поршнев в объяснительной записке Коллегии института сетовал: «В феврале <…> Коллегией ин[ститу]та мне был предоставлен 3-месячный отпуск. Предполагая, что предоставление отпуска не может означать ничего другого как возможность прекратить работу (категорически воспрещенную врачом) и, следовательно, отсрочки в выполнении учебного плана, я провел часть времени в санатории и часть, просто не работая, в Москве, и только в самом конце отпуска, на совещании диссертантов с т. Ванагом, узнал, что предоставление отпуска Коллегией вообще ничего реально не обозначает, и только после этого спешно приступил к окончанию начатого ранее доклада о Руссо» 68.
Этот текст показывает, что после болезни работать нужно было еще более интенсивно, а также то, что в первую половину 1929 г. ему зачли всего одну работу – доклад «Социальные идеи Руссо», сданный в конце 1928/29 уч. г. О докладе можно судить только по сохранившимся отзывам С. М. Моносова – члена секции истории Запада 69, и В. П. Волгина – заведующего этой же секцией. Доклад не вызвал у рецензентов восторга, которые отметили склонность автора к спекулятивным построениям и синтетическому конструированию – грех, за который Б. Ф. Поршневу многократно будут пенять в дальнейшем [Кондратьев, Кондратьева, 2003].
В 1929 г. Б. Ф. Поршнев начал осваивать английский и латынь и одновременно подрабатывал экскурсоводом в музее Энгельса. Оценивая работу Б. Ф. Поршнева за 1928/ 29 уч. г., комиссия по академической успеваемости аспирантов сочла ее удовлетворительной, обратив «внимание тов. Поршнева на теоретическую неустойчивость». Его обязывали закончить учебный план – «2-й доклад по специальности, 2-ю работу не по специальности» – к 1 января 1930 г. Видимо, тем самым его пребывание в аспирантуре продлевалось. Хотя нельзя исключить и того, что продление было связано с неразберихой, вызванной переводом Института истории РАНИОН в ведение Коммунистической академии. В карточке аспиранта сказано: «По вопросу о переводе в К[оммуни-стическую] А[кадемию]. Поручить разбор комиссии в составе А. Д. Удальцова, В . И. Невского и С. М. Моносова» 70. Коллегия Института истории РАНИОН 27–28 мая 1929 г. дословно утвердила решение комиссии 71.
Институт истории РАНИОН и его директор Д. М. Петрушевский в конце 1920-х гг. постоянно подвергались жесточайшим нападкам со стороны М. Н. Покровского и других ортодоксальных марксистов. В 1928 г. «после долгой и продолжительной борьбы» пост ученого секретаря Института истории РАНИОН удалось занять одному из учителей Б. Ф. Поршнева С. А. Пионтковскому, который откровенно заявлял, что призван бороться со старой, буржуазной исторической идеологией, а Д. М. Петрушевского именовал «врагом рабочего класса» и «открытым классовым врагом» [Дневник историка…, 2009, С. 174, 176–177]. С. А. Пионтковский стремился вовлечь аспирантов, как тогда говорили, в классовую борьбу на историческом фронте. Он отмечает, что в Институте истории РАНИОН работало и училось довольно много марксистской молодежи, которая в своей ненависти к старым профессорам не знала никаких границ. Если М. Н. Покровский брал под защиту директора РАНИОН Д. М. Петрушевского, то «молодежь была готова оторвать голову кому угодно, в том числе и Петрушевскому» [Там же. C. 113]. По его словам, всеми секциями руководили «буржуазные ученые», и только «секция новейшей русской истории» возглавлялась большевиком Невским. С . А. Пионтковский сетует на то, что часть пришедшей в Институт истории марксистской молодежи, начав овладевать знаниями, нередко охладевала к марксизму, что все усилия по вытеснению старой профессуры она «побивает <…> Монбланом своих знаний» [Там же. C. 115, 134].
Но вскоре ему удалось внести раскол в коллектив Института истории РАНИОН, произошло даже размежевание внутри секции русской истории: «Аспирантура сейчас у нас резко разбилась на две группы: коммунистическую группу и группу близкую к беспартийным. Надо сказать, что небольшая группка поддерживает связь со мной и Невским. Группа же беспартийных всецело ориентируется на Бахрушина и Веселовского. Так и на секционных заседаниях приходят и даже садятся отдельно. С одной стороны мы, всей группой спевшихся и сдружившихся между собой товарищей, с другой стороны тоже, по-видимому, спевшиеся ученики Бахрушина, Веселовского и Яковлева, рассаживаются вокруг них» [Там же. C. 180]. Б. Ф. Поршнев, по-видимому, активного участия в развернутой С. А. Пионтковским «идеологической борьбе на историческом фронте» не принимал. Вероятно, на заседаниях он садился рядом с С. А. Пионтковским и В. И. Невским. Но если он и был их солдатом, то скорее пассивным. Описывая поведение Б . Ф. Поршнева и аспирантки И. М. Лукомской, которая через много лет станет второй женой франковеда, С. А. Пионтковский замечает: «Оба очень славные ребята, оба интеллигенты, потомственные и почетные, оба образованные, оба очень неглупые, оба стремящиеся к научным занятиям. Одна только беда – глубоко беспартийные, и интереснее всего то, что оба с большим интересом относящиеся к политике и в то же самое время не стремящиеся вступать в партию, несмотря на мою агитацию». Видимо, уже тогда Б. Ф. Поршнев дорожил своей самобытностью и не стремился оказаться внутри противостоящей массы. С. А. Пионтковский продолжает уже теперь только о нем: «Его (Б. Ф. Поршне-ва. – Т. К. ) острый язык, сугубая интеллигентность, индивидуализм и склонность к излишним философствованиям уже начинают восстанавливать против него ребят в РАНИОНе» [Там же. C. 157–158]. Более того, есть основания полагать, что он сторонился и избегал развернувшихся склок и нападок. Напомним, что в 1929 г. Б. Ф. Поршнев сказался больным и редко присутствовал в Институте истории РА-НИОН.
9 июня 1929 г. комиссия по академической проверке Института истории РАНИОН приняла официальное решение о переводе Б. Ф. Поршнева в Институт истории Кома-кадемии с обязательством окончить его («без диссертации») к 1 января 1930 г., сделав приписку «обратить внимание тов. Поршнева на теоретическую неустойчивость и на замечания о его работе т.т. Волгина и Моносова» 72.
После каникул, 15 сентября 1929 г., в Институте истории Комакадемии проходило распределение на работу «беспартийных аспирантов». Поршнева среди них не оказалось. Против его фамилии чья-то рука сделала характерную запись: «“В воздухе”, как не вошедший в первоначальное распределение» 73. Коллегия Комакадемии 31 декабря 1929 г. приняла решение отчислить (среди других) аспиранта Б. Ф. Поршнева из Ин- ститута истории, «предоставив ему право сдать невыполненные работы» до 1 октября
1930 г.
В 1929 г., до формального окончания аспирантуры, Б. Ф. Поршнев написал две пространные работы. Это обширная рецензия на книгу П. П. Парадизова «Очерки по историографии декабристов» и семинарская работа по этнографии «О социальной при- роде шаманства у якутов».
Книга П. П. Парадизова, снабженная предисловием В. И. Невского, была одной из многих в череде работ, выпущенных к 100летнему юбилею декабристов [Цепилова, 2005]. Б. Ф. Поршнев видел ее ценность в том, что автор показал связь между декабризмом и последующей буржуазной идеологией [1929].
Давно бытует мнение, что Б. Ф. Поршнев был учеником В. П. Волгина [Поршнева, 2007. С. 548; Вите, 2005. С. 5; Гладышев, 2007. С. 204; Гордон, 2009. С. 184]. Мы не располагаем никакими данными о возможном влиянии В. П. Волгина на формирование Б. Ф. Поршнева во время его обучения в 1-МГУ. Но работа Б. Ф. Поршнева в ИСС под руководством С. А. Пионтковского и специализация по секции Новой русской истории в Институте истории РАНИОН говорит в пользу того, что в 1920-х гг. он не собирался становиться франковедом. Его интересовала российская история XIX в. и общественная мысль этого времени, что логично обусловило выбор секции Новой русской истории, во главе которой стоял В. И. Невский. Выше приведенные данные позволяют называть Б. Ф. Поршнева учеником В. И. Невского или даже С. А. Пионтковского с большим основанием, чем В. П. Волгина. Теперь о том, почему Б. Ф. Поршнев в дальнейшем позиционировал себя как ученик В. П. Волгина и никогда не вспоминал о В. И. Невском, С. А. Пионтковском и др. Ответ очевиден: в 1936–1937 гг. В. И. Невский и С. А. Пионтковский были репрессированы. Поэтому обозначать с ними связь до середины 1950-х гг. было небезопасно. К этому времени Б. Ф. Поршнев стал уже признанным историком Франции, которому нужно было по каким-то причинам мифологизировать отчасти свою раннюю академическую биографию.
Доклад «О социальной природе шаманства у якутов» Б. Ф. Поршнев закончил в конце 1929 – начале 1930 г., где вновь попытался, манипулируя постулатами марксизма, построить некую «социологическую схему эволюции шаманства 75.
Рецензентами по докладу Б. Ф. Поршне-ва были этнографы П. Ф. Преображенский, С. А. Токарев и В. К. Никольский. Отзыв П. Ф. Преображенского – краток и формален. Он предложил зачесть доклад, отметив «тщательное штудирование источников», «сравнительно небольшую этнологическую подготовку автора» и его «остроумную критику существующих гипотез о происхождении шаманства» 76.
С. А. Токарев оценил работу Б. Ф. Порш-нева положительно и отметил, что она «социологическая» и только «формально посвящена якутскому шаманству». Автор «не этнограф и в этнографии эрудирован довольно слабо», поэтому «допускает здесь немало рискованных, произвольных и просто неверных утверждений», «сама проблема поставлена чересчур отвлеченно», и «в конце концов, якутское шаманство осталось за пределами работы т. Поршнева» 77.
Отзыв В. К. Никольского полностью отрицателен. Он также отметил отсутствие в докладе реального этнографического материала и посоветовал автору вместо «абстракций <…> привлекать больше якутского и внеякутского этнографического материала, исследовать его в распадающихся родовых обществах» 78.
Нет данных, проходил ли Б. Ф. Поршнев производственную практику, будучи аспирантом. В учетной карточке аспиранта Б. Ф. Поршнева за 1928/29 уч. г. графы о практике 1, 2 и 3-го года обучения остались пустыми 79.
Видимо, еще в 1929 г. Б. Ф. Поршневым была написана статья «Министерства в России» для Малой советской энциклопедии, но издана она была уже в 1930 г. [Поршнев, 1930]. Вероятно, Б. Ф. Поршнев к осени 1930 г. ликвидировал все свои задолженности и был официально «выпущен» из Института истории Комакадемии 1 октября 1930 г.80
Итак, произведенная нами реконструкция семи лет жизни и учебы Б. Ф. Поршнева позволяет сделать вывод о том, что история его пребывания в 1-м МГУ освещена в источниках довольно слабо. Ясно, что его обучение в ФОН длилось три года, но о качестве обучения, предпочтениях студента, его специализации сказать что-либо определенное затруднительно. Вместе с тем мне кажется, что собранный материал позволяет развеять некоторые мифы, которые стали ассоциироваться с именем ученого, в частности, информация о том, что он серьезно изучал в 1-м МГУ биологию и психологию. Уже со студенческих лет Б. Ф. Поршнев начал зарабатывать на жизнь интеллектуальным трудом.
В середине – конце 1920-х гг. исследовательский интерес Б. Ф. Поршнева лежал в области изучения России XIX в., революционных и общественных движений. Обучаясь в Институте истории РАНИОН и затем в Институте истории Комакадемии, он, по-видимому, выполнил все формальные требования, что позволило ему окончить аспирантуру без представления диссертации, работать над которой он, видимо, и не начинал. Ко второй половине 1920-х гг. отно- сятся его первые печатные работы. Обучение Б. Ф. Поршнева в аспирантуре позволяет сделать вывод о том, что он не собирался становиться исследователем Франции и что он был скорее учеником В . И. Невского и / или С. А. Пионтковского, и совсем не был учеником В. П. Волгина. Уже в начале научной деятельности Б. Ф. Поршнева современники замечали у него склонность к теоретическому конструированию и слишком свободное манипулирование материалом.
Список литературы Борис Федорович Поршнев: начало большого пути
- Вите О. Борис Федорович Поршнев и его критика человеческой истории // Французский ежегодник. М., 2005. С. 4-36.
- Вите О. «Я - счастливый человек». Книга «О начале человеческой истории» и ее место в творческой биографии Б. Ф. Поршнева // Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. СПб., 2007. С. 576-706.
- Гладышев А. В. Три советских историка французского коммунизма XVIII в. Волгин, Поршнев, Кучеренко // Французский ежегодник. М., 2007. С. 201-214.
- Гордон А. В. Великая Французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009. 384 c.
- Дневник историка С. А. Пионтковского. Казань: Изд-во КГУ, 2009. 516 c.
- Ждан А. Н. Преподавание психологии в Московском университете (К 80-летию Психологического института и 50-летию кафедры психологии в Московском университете) // Вопр. психологии. 1993. № 4. С. 80-93.
- Иванов И. Новые материалы к биографии академика Г. А. Острогорского // Христианские чтения. 2010. Вып. 2. С. 119-141.
- Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Западноевропейское Средневековье в Институте истории РАНИОН (по материалам ГАРФ) // Европа. Международный альманах. Тюмень, 2007. Вып. 7. С. 67-83.
- Кондратьев С. В., Кондратьева Т. Н. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е - начало 50-х гг. XX века). Тюмень: Мандр и К, 2003. 274 с.
- Кондратьева Т. Н. Б. Ф. Поршнев читает М. А. Бакунина // Вестн. Тюм. гос. ун-та. 2012. № 2. С. 210-214.
- Кондратьева Т. Н. Кое-что о том, как создавался учебник по истории Средних веков для школ (1934 год) // Европа. Международный альманах. Тюмень, 2010. Вып. 9. С. 73-79.
- Кондратьева Т. Н. Обучение студентов на общественно-педагогическом отделении факультета общественных наук МГУ (1921- 1925) // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2014. № 6 (32). С. 89-94.
- Лагно А. Р. Факультет общественных наук Московского университета как школа подготовки специалистов для советского государственного аппарата // Ученые труды факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова. 2009. Вып. 7. С. 297-311.
- Левин М. Г. Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923) // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 1-13.
- Летопись Московского университета. Исторический факультет / Под ред. С. П. Карпова. М.: Изд-во МГУ, 2009. 384 c.
- Поршнев Б. Ф. Борьба за троглодитов // Простор. Алма-Ата, 1968. № 7. C. 110-125.
- Поршнев Б. Горсоветы и работница. 2-е изд. М.: Гос. изд-во, 1928. 32 с.
- Поршнев Б. Ф. Министерства в России // МСЭ. М., 1930. Т. 5.
- Поршнев Б. Ф. Рецензия. Парадизов П. Очерки по истории декабристов. М., 1929 // Каторга и ссылка. 1929. № 10. С. 204-210.
- Поршнева Е. Б. Реальность воображения (записки об отце) // Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. СПб., 2007. С. 539-575.
- Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. М.: Гос. изд-во, 1919. Вып. 2. 204 c.
- Цепилова В. И. Российская эмиграция и 100-летие выступления декабристов // Отечественная история. 2005. № 6. С. 159-166.
- Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факультет / Под ред. С. П. Карпова. М.: Изд-во МГУ, 2004. 544 c.