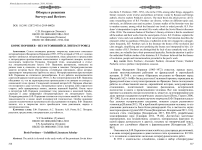Борис Поршнев - несостоявшийся литературовед
Автор: Кондратьев Сергей Витальевич, Кондратьева Тамара Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Обзоры и рецензии
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена раннему творчеству известного советского историка Бориса Федоровича Поршнева (1905-1972), который в 1930-х гг. помимо прочего занимался литературными изысканиями, писал рецензии и предисловия к литературным произведениям отечественных и зарубежных авторов, пытался исследовать творчество Пушкина. Основной тезис, доказываемый в статье: все литературоведческие тексты Б.Ф. Поршнева разнородны, написаны на разные темы и, очевидно, по разным случаям и поводам. Литературоведческие занятия историка были обусловлены случайными причинами, среди которых превалируют материальные (работа на заказ). Интерпретационная аргументация Б.Ф. Поршнева не отличается разнообразием. В его работах воспроизводится советский марксистский дискурс 1930-х гг. Все литературоведение Б.Ф. Поршнева объединяет то, что на характеризуемые произведения и их авторов он смотрел с социальной точки зрения. Социальной позицией автора Б.Ф. Поршнев объяснял его воззрения и даже эстетику. Литературные герои у историка либо охранители старого, либо приверженцы нового, занятые взаимной борьбой. Очень часто в литературе Б.Ф. Поршнев усматривает тему революции и классовой борьбы, упрощая и даже профанируя интерпретируемую им литературную ткань. Литературоведение Б.Ф. Поршнева отличается отсутствием какой бы то ни было замысловатости и ценно своей подчеркнутой типичностью. Особое внимание уделено незаконченным пушкинистским исследованиям историка. Б.Ф. Поршнев полагал, что в творчестве поэта преобладали темы революции, народа и интернационализма.
Б.ф. поршнев, а.с. пушкин. а.и. ромм, в.с. печерин, рецензия, предисловие, интерпретация, случайность
Короткий адрес: https://sciup.org/149127140
IDR: 149127140 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00026
Текст научной статьи Борис Поршнев - несостоявшийся литературовед
Борис Федорович Поршнев (1905-1972) известен, прежде всего, своими многочисленными работами по французской и европейской истории. В 1948 г. его книга «Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648)» была удостоена Сталинской премии, переведена на французский язык и получила признание во Франции. Затем последовали работы по общественной мысли, европейской истории, международным отношениям, политической экономии феодализма, исторической психологии и книга о происхождении человека. Все они подвергались критике за слишком смелые построения и, зачастую, за игнорирование или даже прямые искажения исторических свидетельств [Вите, Гордон 2006, 181-200]. Если в своем позднем научном творчестве Б.Ф. Поршнев всецело был увлечен историческими штудиями, поиском следов реликтового гоминоида [Ильина 2015, 39] и проблемой происхождения человека, то его довоенная деятельность была более разнородной. Он, в частности, играл некоторое время в труппе М.И. Ромма [Кондратьев, Кондратьева 2015,143], пытался стать этнографом [Кондратьева 2017, 856-857], разрабатывал классификацию наук [Самарин 2014, 79-84]. Достаточно хаотичные перемещения, под воздействием, думается, материальных факторов из одной сферы деятельности в другую, похожие на эмпирический поиск, привели его случайным образом к франковедению [Кондратьева 2017, 863].
Оказывается,Б.Ф.Поршневоставилсвойслед, едва,правда,различимый, и на ниве литературоведения и даже пытался стать пушкинистом. В 1930-х гг. он написал и напечатал несколько литературоведческих работ.
В 1933 г. издательство «Academia», сдавая в набор «Литературные воспоминания» известного критика и поэта-символиста П.П. Перцова (1868-1947), обратилось к Б.Ф. Поршневу с просьбой написать к ним (за гонорар в 400 рублей) «в течение недели» марксистское предисловие. От автора требовалось «дать социологическую характеристику <...> символизма и модернизма <...> и социальной обстановки его развития» [РГАЛИ. 629. On. 1. Д. 188. Л. 4]. Б.Ф. Поршнев стремительно справился с задачей, создав схематичное, в духе рекомендаций, предисловие. Социальный контекст в нем заслонял самих героев мемуаров -Н.К. Михайловского, З.Н. Гиппиус, А.А. Философова, Д.М. Мережковского и др., которые рисовались упрощенно. «Новая эпоха», по Б.Ф. Поршневу, оказывалась «за гранью декадентов», которые хоть и были способны «осознать» приближение конца капитализма, но одновременно не видели сил, способных его уничтожить [Поршнев 1933, V-XXXVI],
В 1934 и 1935 г. под псевдонимом В. Пущин Б.Ф. Поршнев публикует две острокритические и даже саркастические рецензии на монографию А.К. Дживелегова о Данте и на перевод «Новой жизни» этого итальянского поэта, выполненный А.М. Эфросом, который, впрочем, критикуется не столько за перевод, сколько за предисловие к нему. Публикация рецензий под псевдонимом объясняется тем, на наш взгляд, что все трое - А.К. Дживелегов, А.М. Эфрос и Б.Ф. Поршнев -тогда активно сотрудничали с издательством «Academia». А.М. Эфрос, кроме того, заведовал там отделом французской литературы, который курировал подготовку к изданию перевода «Мемуаров» кардинала де Реца А.М. Гнединой с предисловием и комментариями Б.Ф. Поршнева. А.М. Эфрос к этому времени составил весьма прохладный отзыв на представленный, по его словам, «средний» перевод [Кондратьева 2016, 148-149]. Работы А.К. Дживелегова и А.М. Эфроса Б.Ф. Поршнев считает «немарксистскими», ибо авторы не сумели раскрыть социальную обусловленность творчества Данте, правильно интерпретировать его эволюцию, объяснить очевидное, т.е. увидеть за борьбой между гвельфами и гибеллинами борьбу между буржуазией и дворянством, наконец, процитировали, но не сумели понять положение Энгельса о том, что Данте - «последний поэт Средних веков и первый поэт нового времени». Поршнев порицает А.К. Дживилегова, в частности, за некритическое использование итальянских авторов, особенно Бенедетто Кроче, которого предвзято называет «фашистом» [Пушин 1934, 81-85]; [Пушин 1935, 87-90].
В эти же годы Библиотека им. В.И. Ленина задумывает публикацию писем В.С. Печерина (1807-1885) - выдающегося отечественного антиковеда, поэта, переводчика, публициста, общественного деятеля, радикального мыслителя, католического монаха, иезуита, проповедника, миссионера и эмигранта, и Б.Ф. Поршнев активно занимается поисками его эпистолярного наследия в архивах Москвы и Ленинграда [Кондратьева 2015, 123-130].
В середине 1930-х гг. Б.Ф. Поршнев обращается к творчеству
А.С. Пушкина, заполняет тетради обширными выписками из литературоведческих работ и параллельно с ними делает выборки из исследований по социально-экономической истории России XIX в. [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 12, Д. 13].
После революции восприятие творчества А.С. Пушкина в СССР претерпело существенную эволюцию. Несмотря на желание власти утвердить единство взглядов, в 1920-х гг. в оценке русского литературного наследия наличествовала полифония, что объясняется тем, что контроль Сталина за партийным и государственным аппаратом не был очевидным. В культурном поле существовало напряжение, создаваемое несколькими центрами влияния. Советская эстетика находилась только в начале отвердевания. Звучали призывы отказаться от пушкинского наследия («сбросить Пушкина с корабля современности») в пользу авангардного, революционного искусства. Доминировал классовый, вульгарносоциологический подход. Д. Благой полагал, что поэт оказывается чужд пролетариату, а в своем творчестве он дрейфовал от дворянской идеологии (прошлой) к мещанской (буржуазной, будущей). М.Н. Покровский, в свою очередь, писал о А.С. Пушкине как о реакционере, носителе «стародворянской» аристократической идеологии [Черниговский 2008, 78-79]. Рапповцы вообще объявляли А.С. Пушкина сторонником чистого искусства [Платт 2017, 166-177].
В 1930-е гг. утвердившаяся окончательно власть, приступила к формированию единообразного культурного пространства, активно задействуя культурный капитал прошлого. Фигура А.С. Пушкина оказалась весьма подходящей, и он быстро стал трансформироваться из консерватора, реакционера, сторонника чистого искусства в народного писателя и близкого трудящимся поэта, в творчестве которого можно найти мотивы «которые роднят его со сталинской эпохой» [Карпенко Г.Ю., Карпенко Л.Б. 2016, 74-75].
16 декабря 1935 г. Постановлением В ЦИК СССР был учрежден Всесоюзный Пушкинский комитет, который должен был подготовить празднование 100-летия со дня смерти А.С. Пушкина. На следующий день передовица газеты «Правда» писала о А.С. Пушкине как о «великом русском поэте» [Depretto 2008, 428-429].
Трудно сказать, что побудило Б.Ф. Поршнева попытаться внести свой вклад в подготовку чествования поэта и переосмысление его образа и биографии. В июле 1935 г. он увольняется из библиотеки им В.И. Ленина и переходит на работу в Московское отделение Государственной академии истории материальной культуры (МО ГАИМК) [Архив РАН. Ф. 1574. Оп. 4. Д. 90. Л. 4 об.]. Возможно, там ему поручили заняться А.С. Пушкиным. Но, может быть, он начал собирать материал по собственной инициативе, дабы занять ставшую после смерти М.Н. Покровского и его развенчания свободной тему «Пушкин как историк».
Выписки Б.Ф. Поршнева совершенно точно относятся к 1934-1936 гг. Одна из выписок сделана на библиографической карточке, на которой значится: «Земляков Б.Ф. О послеледниковых колебаниях климата и их значении в археологии. - Проб[лемы] ист[ории] докапиталистических обществ. 1934, № 4». Среди выписок упомянуты работы С. Греса «Пиковая дама (критический очерк в диалогах)», опубликованная в журнале «Звезда», № 5 за 1935 г, А. Дермана «Пушкин и пушкинисты» (30 дней. 1935, № 5). [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 12, 7, 39, 64]. Отсутствие более поздних выписок позволяет сделать вывод, что Б.Ф. Поршнев работал над, как он пишет, «темой Пушкин» до знаменитых празднеств 1937 г.
Историка интересовали «исторические основы» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 25] пушкинского творчества и его основные темы. Ему удалось написать небольшой текст, посвященный поэту, который, вероятно, предназначался к публикации. Первоначальное и нейтральное название текста «Пушкин и история» было зачеркнуто Б.Ф. Поршневым и заменено более выразительным и политически правильным заголовком: «Пушкин -непримиримый враг самодержавно-крепостнической России» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 38].
Прежде всего, историк отмежевался от ставших политически неактуальными и ошибочными трактовок наследия и фигуры писателя. «Горе-литературоведы, социологизаторы, пытались лишить победившие трудящиеся классы СССР пушкинского наследия. Они пытались сделать это, превратив Пушкина всего лишь в певца определенного исторического класса, дворянства, уходящего со сцены, превратив нашего великого писателя Пушкина в загробную тень, превратив его из великого поэта в археологический экспонат» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 38]. Б.Ф. Поршнев подчеркивает, что и «в эпоху социализма» Пушкин «остается <...> величайшим художником слова», у которого следует учиться. Поэт делает «огромное дело в великом созидании социалистической культуры». Но только формалисты могут сводить значение Пушкина к области культуры. «Общественное содержание» его творчества представляется Б.Ф. Поршневу намного шире. «Пушкин, - по мнению Б.Ф. Поршнева, - был подлинным гражданским поэтом и сам считал, что именно общественное содержание оставляет бессмертную основу его поэзии» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 38].
Б.Ф. Поршнев предлагает изучать «общественно-политические <...> взгляды» Пушкина, знать его «как социального поэта и как историка». Он выделяет в жизни писателя два периода: первый - это период «Вольности», «К Чаадаеву», связи с декабристами, когда «правительство Николая I <...> справедливо видело в Пушкине революционера», второй период наступил после подавления декабристского выступления, когда «Пушкин начал сомневаться в возможности революции в России». Поскольку любой «бунт, восстание, возмущение» против самодержавия, хотя и вызывали сочувствие поэта, но казались ему «бессмысленными» и обреченными на поражение [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 39-40]. Во всех «российских» произведениях Пушкина - «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «История Пугачева», «Дубровский», «Медный всадник»,
«Полтава» - возмущение против власти оканчивается неудачами и карами. Только в «Сценах из рыцарских времен», произведении из западной жизни, он описал победоносное восстание крестьян [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 40]. Б.Ф. Поршнев высказывает мысль, что Пушкин приходит к «дуалистической концепции». Из Гизо и Тьери поэт «усвоил <...> схемы исторического] развития и классовой борьбы». Но «Россия никогда ничего общего не имела с остальной Европой». В Россию революцию пытались осуществить, и это видел Пушкин, не имевшие исторической перспективы дворяне. В России не оказалось класса, по мнению Б.Ф. Поршнева, который бы мог победоносно возглавить народный бунт. Поэтому «в Европе <...> революция была и возможна, и необходима, и приводила к торжеству прогрессивных идеалов; напротив, в России она, в силу конкретных причин историч[еского] развития, оказалась невозможна, обречена на поражение» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 13, 29-30, 31, 35].
Кроме революции, которую Б.Ф. Поршнев считал центральной темой в творчестве Пушкина, он выделяет еще две: тему народа (народность поэта) и тему интернационализма. «Народ для Пушкина - это основная историческая и творческая сила в истории <...> В будущем подлинным носителем исторического развития Пушкин представлял себе только народ <...> Вот почему так глубоко народно все творчество Пушкина. Без веры в гигантскую историческую миссию народа Пушкин никогда не связал бы так глубоко свое творчество с народным творчеством, с народной жизнью, с народным языком». Пушкин, по Б.Ф. Поршневу, - это российский Данте и Шекспир, родоначальник русской литературы [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 12, 41]. Тема интернационализма, считает историк, проходит рефреном в «Кавказском пленнике», «Цыганах», «Арапе Петра Великого», «Калмычке» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 27. Д. 12, 41].
Воспроизведенные риторические фигуры показывают, что Поршнев хорошо усвоил новый официальный дискурс и старался в точности следовать его стереотипным формулам. Остается невыясненным: почему текст не был издан? Думается, ответ на этот вопрос, вероятно, никогда не будет найден. Возможно, автора испугали репрессии 1937 г. и страх незаметно для себя перейти незримую грань между правильным и ложным, возможно, издание, в которое текст был отдан, просто не увидело, как тогда часто бывало, свет. Но более вероятной нам представляется версия о том, что параллельно с Б.Ф. Поршневым над темой «Пушкин - историк» работал известный филолог П.С. Попов. Он хорошо знал исторические рукописи Пушкина. Им в результате был подготовлен компетентный, взвешенный академический текст, опубликованный в 1937 г. [Попов 1937, 128-149]. Прямолинейному в оценках Б.Ф. Поршневу, в общем-то, нечего было противопоставить исследованию П.С. Попова.
Во второй половине 1930-х гг. Б.Ф. Поршнев быстро трансформировался в историка Франции. Это превращение было сопровождено рецензией на перевод «Мемуаров» герцога Луи де Сен-Симона и предисловием к «Хронике времен Карла IX» Проспера Мериме.
Историк высоко оценивал перевод М.И. Гревса, исполненный с «большим научным вкусом» [Поршнев 1937, 234], и привычно рассматривал его с социологической точки зрения. «Мемуары» Сен-Симона, по его мнению, «резко оппозиционны <...> абсолютистскому режиму». Но позиция автора - это позиция реакционной аристократии, теснимой вышедшим из буржуазии дворянством мантии, бюрократами, занимающими высшие позиции в управлении королевством [Поршнев 1937, 235-236]. Свои социологические воззрения Б.Ф. Поршнев развил в предисловии к роману Проспера Мериме, сюжет которого, как известно, развивается вокруг избиения гугенотов в Париже в Варфоломеевскую ночь (1572 г). Б.Ф. Поршнев рисует XVI в. в истории Франции - веком революционной борьбы народных масс, которая не превратилась в победоносную буржуазную революцию из-за предательства и незрелости буржуазии. Он выделяет 4 периода борьбы. Первым этапом была Реформация, когда «интересы» за «обновление общественного строя» принимали форму борьбы за «обновление религии». Активными участниками борьбы тогда выступали буржуазия и «народные массы» преимущественно городов. Реформационная буржуазия создала «гугенотство» - французскую форму кальвинизма. Испытывая страх перед революционностью народных масс, буржуазия пошла на сделку с королевской властью, что не позволило реформационному движению победить во Франции. После чего лидерство в гугенотском движении перехватывает обиженное на королевскую власть дворянство южных областей, и наступает второй этап. Гугенотское дворянство пытается выторговать у власти для себя привилегии или даже посадить на трон своего короля. Религиозные войны между гугенотами и католиками стали венцом второго этапа. После резни протестантов в Варфоломеевскую ночь наступает третий этап, «а революционная борьба, потерпевшая неудачу в русле Реформации, возродилась в русле Католической лиги». Католическая знать была поддержана буржуазией и народом. Но и здесь из-за предательства буржуазии уже Католическая лига потерпела поражение. В 1590-е гг. спадает всякая религиозная оболочка и обнаруживается «неприкрытая классовая борьба» - народные массы больше не надеются на руководящую роль буржуазии, они борются со своими классовыми врагами. Дворянство, в свою очередь, отбрасывает прежние разногласия, внутренне консолидируется и с буржуазией для борьбы с народом [Поршнев 1941, 5-12].
В 1940 г. Б.Ф. Поршнев публикует рецензию на поэму «Дорога в Бикзян» Александра Ильича Ромма (1898-1943), старшего брата М.И. Ромма, прославленного в СССР кинорежиссера. С А.И. Роммом Поршневы, включая Бориса Федоровича, были знакомы с 1920-х гг. [Кондратьев, Кондратьева 2015, 144]. «Дорога в Бикзян» впервые увидела свет в журнале «Новый мир» [Ромм 1937,168]. Спустя два года поэма была переиздана в Уфе в издательстве «Башгосиздат». Поэма повествовала о Кельмете, приемном сыне башкирского бая Азналлы-агая, который довел до самоубийства мать юноши. Кельмет жил у бая на положении батрака. В годы пугачевского восстания, очарованный речами Салавата Юлаева, предводителя восставших башкир, Кельмет выдает убежище Азналлы-агая бунтовщикам и присутствует при расправе над последним. После подавления восстания войсками Михельсона Кельмет оказывается повещенным. Затем действие поэмы переносится в начало 1920-х гг, когда уже новый Азналла-агай организовывает восстание против Советской власти и новый Кельмет скачет стремглав в Бикзян, чтобы донести ревкому о готовящемся мятеже [Ромм 1939, 5-71].
Б.Ф. Поршнев кратко излагает канву поэмы А.И. Ромма. Он рассматривает ее как историческую, в которой показана слабость, неорганизованность и разрозненность восставших пугачевцев и сила большевистской революции, опирающейся на рабочий класс, который представляют рабочие ревкома в Бикзяне. Вместе с тем, он отдает должное поэту, сумевшему показать специфику кочевой Башкирии, обозначить тему Родины, поэтически описать кочевой быт аулов и природу Урала [Поршнев 1940, 267-269].
Подчеркнем: контакты А.И. Ромма и Б.Ф. Поршнева и влияние первого на второго пока даже не обозначены. Но если учесть, что Б.Ф. Поршнев, начиная с 1938 г, работает над книгой, носящей рабочее название «Философия и история», в которой пытается «анализировать слова, как условные знаки вещей» и «слово, еще не имевшее функции что-либо означать» [ОР РГБ. Ф. 684. К. 3. Л. 4; К. 4. Л. 10], то становится ясным, что он был знаком с актуальными проблемами лингвистики 1920-1930-х гг. и лингвистической концепцией Фердинанда де Соссюра. Фердинанда де Соссюра Б.Ф. Поршнев будет затем активно использовать в своих поздних построениях, не делая при этом никаких ссылок [Поршнев 1969, 108]; [Поршнев 1970, 21, 24-25, 319]. Осмелимся предположить, что лингвистическую концепцию де Соссюра Б.Ф. Поршнев узнал благодаря А.И. Ромму, пытавшемуся в начале 1920-х г. впервые в России перевести «Курс общей лингвистики» де Соссюра на русский язык. Известно, что рукопись незаконченного перевод А.И. Ромма ходила по Москве в списках [Иванова 2015, 171].
Суммировав разрозненные и, очевидно, неполные данные, подведем итоги. Все литературоведческие тексты Б.Ф. Поршнева разнородны, написаны на разные темы и, очевидно, по разным случаям и поводам. Казалось бы, логичным было обращение к литераторам XIX в., поскольку историк специализировался в Институте Истории РАНИОН именно на общественной мысли этого времени. Однако среди его текстов только предисловие к мемуарам П.П. Перцова, поиск писем В.С. Печерина и работа над пушкинской темой относятся к XIX в. Но первые два сюжета обусловлены заказами, либо поручениями, поэтому были, думается, достаточно случайными. «Тема Пушкин» возникла в связи с юбилеем и радикальнойпереоценкойтворчествапоэта,поэтому сулила,еслибыудалось соответствовать политическому запросу, очевидные перспективы. Работы, относящиеся к европейской литературе, тоже, видимо, были обусловлены

заказами. Все литературоведение Б.Ф. Поршнева объединяет то, что на характеризуемые произведения и их авторов он смотрел с социальной точки зрения. Социальной позицией автора Б.Ф. Поршнев объяснял его воззрения и даже эстетику. Литературные герои у историка либо охранители старого, либо приверженцы нового, занятые взаимной борьбой. Очень часто в литературе Б.Ф. Поршнев усматриваеттему революции и классовой борьбы, упрощая и даже профанируя интерпретируемую им литературную ткань. Литературоведение Б.Ф. Поршнева отличается отсутствием какой бы то ни было замысловатости и ценно своей подчеркнутой типичностью.
АРХИВЫ
-
1. Архив Российской академии наук (Архив РАН).
-
2. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ).
-
3. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Список литературы Борис Поршнев - несостоявшийся литературовед
- Вите О.Т., Гордон А.В. Борис Федорович Поршнев (1905-1972) // Новая и новейшая история. 2006. № 1. С. 181-200.
- Depretto C. Марксизм гуманитариев: пушкинистика во второй половине 1930-х годов // Russian Literature. 2008. Vol. LXIII. Issues 2-4. P. 427-442.
- Иванова И.С. Рецепция теории Фердинанда де Соссюра советскими лингвистами (1920-1930-е гг.) // XLIII Международная филологическая конференция, Санкт-Петербург, 11-16 марта 2014 г.: избранные труды. СПб., 2015. С. 170-183.
- Ильина И.Н. Документы Архива РАН об изучении «снежного человека» в конце 1950- х гг. // Отечественные архивы. 2015. № 3. С. 37-43.
- Карпенко Г.Ю., Карпенко Л.Б. «Юбилейные» языковые клише о Пушкине, или Поэт на службе у государств // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. № 4. С. 72-79.
- Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Повседневная жизнь семьи Поршневых в 1928 г. (По материалам писем Екатерины Федоровны Поршневой Михаилу Ильичу Ромму) // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 142-146.
- Кондратьева Т.Н. Б.Ф. Поршнев в поисках наследия русского католика В.С. Печерина // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2015. Т. 1. № 1 (1). С. 123-130.
- Кондратьева Т.Н. От исторической фактуры к социологическим фигурам, или как кардинал де Рец обратил Бориса Федоровича Поршнева во франковеда // Новый исторический вестник. 2016. № 50. С. 145-164.
- Кондратьева Т. Борис Федорович Поршнев: между русистикой и франковедением, или О роли случайности в судьбе историка // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5. № 3. С. 853-866.
- Платт Д. Здравствуй, Пушкин!: сталинская культурная политика и русский национальный поэт. СПб., 2017.
- Попов П.С. Пушкин как историк // Вестник Академии Наук СССР. 1937. № 2-3. С. 128-149.
- Поршнев Б. Историческая поэма Александра Ромма // Литературный критик. 1940. № 7-8. С. 267-269.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 80-112.
- Поршнев Б.Ф. Предисловие // Мериме П. 1572. Хроника времен Карла IX / пер. А. Виноградова. М.; Л., 1941. С. 3-12.
- Поршнев Б.Ф. Предисловие // Перцов П.П. Литературные воспоминания, 1890-1902 гг. М.; Л., 1933. С. V-XXXVI.
- Поршнев Б.Ф. Рец. на кн.: Сен-Симон. Мемуары / перевод и коммент. И.М. Гревса. М., 1936 // Историк-марксист. 1937. № 5-6. C. 234-237.
- Поршнев Б.Ф. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в. М., 1970.
- Пушин В. Наукообразный труд [рец. на кн.: Дживелегов А.К. Данте Алигъери. М., 1933] // Книга и пролетарская революция. 1934. № 6. С. 81-85.
- Пушин В. Изысканно-опошленный Данте [рец. на кн.: Данте Алигъери. Vita Nova / пер. с итал., введ. и примеч. А. Эфроса. М., 1934] // Книга и пролетарская революция. 1935. № 3. С. 87-90.
- Ромм А. Дорога на Бикзян // Новый мир. 1937. № 7. С. 168.
- Ромм А. Дорога в Бикзян. Уфа, 1939.
- Самарин А.Ю. Б.Ф. Поршнев: научный консультант Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина // Библиотековедение. 2014. № 2. С. 77-85.
- Черниговский Д.Н. Политическая биография А.С. Пушкина в трудах советских социологистов 1920-1930-х гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. Т. 1. № 2. С. 78-82.