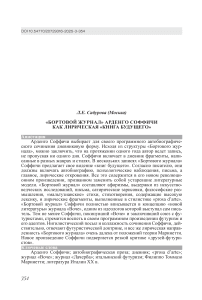«Бортовой журнал» Арденго Соффичи как лирическая «Книга будущего»
Автор: Л.Е. Сабурова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Арденго Соффичи выбирает для своего программного автобиографического сочинения дневниковую форму. Исходя из структуры «Бортового журнала», можно заключить, что на протяжении одного года автор ведет запись, не пропуская ни одного дня. Соффичи включает в дневник фрагменты, написанные в разных жанрах и стилях. В нескольких записях «Бортового журнала» Соффичи предлагает свое видение «книг будущего». Согласно писателю, они должны включать автобиографию, психологические наблюдения, письма, а главное, лирические откровения. Все это содержится в его новом революционном произведении, призванном заменить собой устаревшие литературные модели. «Бортовой журнал» составляют афоризмы, выдержки из искусствоведческих исследований, письма, сатирические зарисовки, философские размышления, «мальтузианские» стихи, стихотворения, содержащие высокую лексику, и лирические фрагменты, выполненные в стилистике «prosa d’arte». «Бортовой журнал» Соффичи полностью вписывается в концепцию «новой литературы» журнала «Воче», одним из идеологов которой выступал сам писатель. Тем не менее Соффичи, покинувший «Воче» и заключивший союз с футуристами, стремится воспеть в своем программном произведении футуризм и его адептов. Нигилистический посыл и коллажность сочинения Соффичи, действительно, отвечают футуристической доктрине, и все же лирическая направленность «Бортового журнала» очень далека от положений теории Маринетти. Новое произведение Соффичи подвергается резкой критике «друзей-футуристов».
Арденго Соффичи, автобиографическая проза, дневник, «prosa d’arte», журнал «Воче», журнал «Лачерба», итальянский футуризм, Филиппо Томмазо Маринетти, литература Италии ХХ в.
Короткий адрес: https://sciup.org/149149404
IDR: 149149404 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-354
Текст научной статьи «Бортовой журнал» Арденго Соффичи как лирическая «Книга будущего»
Ardengo Soffici; autobiographical prose; diary; “prosa d’arte”; “Voce” magazine; “Lacerba” magazine; Italian futurism; Filippo Tommaso Marinetti; 20th-century Italian literature.
«Бортовой журнал» по праву считается одним из самых значительных произведений в наследии итальянского писателя и художника Арденго Соффи-чи. Работа над этим сочинением совпадает по времени с уходом Соффичи из журнала «Воче» (1908–1916) – рупора итальянских экспрессионистов. Несмотря на то, что Соффичи покидает «Воче», его «Бортовой журнал» находится в русле поэтики, разработанной писателями именно этого литературного объединения [Сабурова 2019]. С одной стороны, сотрудники «Воче» стремились отказаться от веризма, а с другой, противопоставить модному литературному декадансу во главе с Г. Д’Аннунцио новые литературные модели. Ориентиром в европейском опыте для них становится лирическая проза: «Парижский сплин» Ш. Бодлера и «Озарения» А. Рембо, а в итальянском культурно-философском поле объединение опирается на «Эстетику» Б. Кроче [Croce 1902], согласно которой художественная ценность литературного произведения определяется наличием «лирического элемента». Кроме того, литераторы из «Воче» разрабатывают жанровую разновидность, которую именуют фрагментом. По их замыслу, повествование в рамках крупной формы должно быть фрагментарным, благодаря этому оно сохранит свою лирическую ценность. На уровне содержания новая литературная модель непременно должна представлять собой пример личного письма и прежде всего рассказывать об авторе сочинения [La cultura italiana 1960].
«Бортовой журнал» А. Соффичи – одного из главных идеологов журнала «Воче» до 1913 г. – представляет собой яркий образец «новой литературы»: это автобиографическое сочинение, чрезвычайно далекое от истории жизни, описанной в реалистическом ключе и в хронологическом порядке. Книга состоит из разнородных фрагментов, многие из которых сам Соффичи относит к примерам «чистого лиризма». Они написаны в стилистике «prosa d’arte», позже оформившейся в самостоятельный жанр [Valli 2001]. Тем не менее создание экспериментального автобиографического произведения совпало для Соффи-чи с периодом интенсивной работы в основанном им новом журнале «Лачер-ба» (1913–1915), заключившем союз с футуристами. Теперь всерьез увлекшийся футуризмом, Соффичи стремится представить свое программное сочинение как сугубо футуристическое.
В ходе работы над «Бортовым журналом» в 1913 г. Соффичи регулярно публикует фрагменты из новой книги в «Лачербе» с 15 января по 15 декабря. «Журнал», целиком впервые изданный в 1915 г., написан в форме дневника, где автор делает записи на протяжении года, не пропуская ни одного дня. Для сочинения Соффичи характерна как стилистическая, так и лингвистическая пестрота: в тексте содержится немало тосканизмов и просторечий [Vanden Berghe 1997, 81–83], часто сочетающихся с высокой лексикой; кроме того, встречаются как отдельные выражения [Soffici 1921, 23], так и целые фрагменты на французском языке [Soffici 1921, 99–104]. «Бортовой журнал» задуман автором как своего рода манифест нового искусства. Соффичи охотно снабжает разъяснениями свое программное сочинение, помогая читателю настроиться на непривычное чтение. Во времена работы в «Лачербе» более всего Соф-фичи занимала идея краткости в литературе. В своем «Бортовом журнале» он пытается разработать теоретическую базу лаконичного и вместе с тем максимально содержательного литературного высказывания:
По моему мнению, существует два типа литературы. Одна – отмеченная чувством меры, структурной гармонией, аналитическая – и в итоге дидактическая; <…> другая – сжатая, запечатлевающая вскользь, в общих чертах, можно сказать, лукавая, состоящая из намеков, подмигивающая на ходу с легкой улыбкой, которую лишь друзья, посвященные, братья по разуму, могут понять и оценить по достоинству. Это моя [Soffici 1921, 74–75].
Особенно много места в дневнике Соффичи отводит размышлениям об устаревшей, на его взгляд, системе жанров и новым формам, призванным ее заменить:
Если бы у меня было время, я бы потратил его на то, чтобы показать неизбежный и скорый провал романа, новеллы и драматургии. Приведу некоторые соображения. <…> Это разномастные явления, утрамбованные поэзией, которая, подчиняясь интриге, теряет свою чистоту <…> Книги будущего: собрания лирических откровений, автобиографии, эпистолярная проза и тома психологических наблюдений [Soffici 1921, 169–170].
Отметим, что высказанные соображения Соффичи во многом близки размышлениям Дж. Леопарди о поэтическом призвании, содержащимся в «Zibal- done». Согласно Леопарди, поэту не свойственно передавать чувства вымышленных героев, равно как ему чуждо терпеливое, педантичное наблюдение за характерами других. «Чувство, оживленное настоящим, – вот единственная муза-вдохновительница настоящего поэта, единственное, что он в силах выразить» [Leopardi 1898, 299–300]. Не называя себя поэтом, Соффичи, однако, следует заветам Леопарди. Освободившись от надобности рассказывать о «жизни других», Соффичи заполняет свой дневник лишь теми составляющими, которые, в его понимании, могут лечь в основу «книг будущего».
«Бортовой журнал» адресован неким идеальным читателям, образ которых автор рисует еще в первой заметке от 1 января. Автор делает самому себе наставление, обращаясь к себе на «ты»:
Будто допуская читателя в пространство внутреннего монолога, Соффичи заявляет о своей установке на полную искренность.
Тем не менее «Бортовой журнал» очень далек от «интимного дневника». Прежде всего, он лишен исповедальной интонации. Более того, автор крайне редко сообщает об обстоятельствах своей жизни или же о переживаниях личного характера. Соффичи посвящает обширные записи собраниям футуристов [Soffici 1921, 44–45, 257], а также указывает в подзаголовках место своего пребывания в Бульчано, Пизе, Флоренции, поездке на поезде из Латерины в Ареццо и проч. – эти эпизоды являются чрезвычайно скудной событийной составляющей дневника, относящейся к реальности. Ретроспективный рассказ о прошлом встречатся лишь в записи от 8 июля под названием «О бедности», повествующей от лица некоего Меналио – одного из многочисленных альтер-эго автора – о его нищенском существовании в Париже [Soffici 1921, 140–146]. Зачастую Соффичи говорит о себе универсальными формулами, не раскрывая подробностей своей жизни. Рассуждения о литературе нередко ведутся от имени неких условных нас, таким образом писатель подчеркивает, что не одинок в своей борьбе за новые формы в литературе, он окружен единомышленниками. В записи от 25 января Соффичи поименно перечисляет поэтов-футуристов, на которых равняется: «Паоло Буцци, Лучано Фольгоре, Коррадо Говони – настоящие поэты. Наш Палаццески – отличный поэт» [Soffici 1921, 24]. Похоже, именно они и являются теми посвященными, братьями по разуму, которые, несомненно, смогут оценить новаторский посыл автобиографической книги Соффичи. В записи от 21 февраля, повествующей о выступлении футуристов в Риме, Соффичи пишет: «Самое большое счастье наконец-то найти гурьбу соратников в сражении за жизнь и красоту!» [Soffici 1921, 40]. Борьба смелых ниспровергателей с устаревшими канонами и костной критикой буквально врывается в каждую фразу, выходящую из-под пера Соффичи. Немало записей по форме и направленности близки к инвективам. Порой Соффичи ограничивается совсем короткими заметками, состоящими из определений: «Габриэле Д’Аннунцио: биде для муз // Джованни Пасколи: жертва семьи // Бенедетто
Кроче: беззастенчивый гувернер» [Soffici 1921, 114]. В результате главным посылом книги становится воспевание творцов «нового искусства», т.е. автора и его единомышленников-футуристов.
Несмотря на то, что записи отличаются по длине, все их можно отнести к разновидности малых литературных форм. Следует сказать, что многим записям «Журнала» автор дает названия («По ночным улицам», «Час», «Уравнение Кроче», «Два артишока»), подчеркивая таким образом их завершенность. Согласно Соффичи, поиском краткости в литературе прежде всего заняты те, кто концентрируется на мимолетных впечатлениях, обладая особой чувствительностью: «Благодаря нашей поразительной чувствительности мы будем создавать ничто, содержащее нечто» [Soffici 1921, 260]. В «Журнале» Соффичи признается в том, что предпочитает короткие литературные сочинения «длинным трудам», «произведениям высокопарным и громоздким» [Soffici 1921, 74]. Эксперимент Соффичи заключается в том, чтобы «пописывать день за днем без замысла; выкладывать таким манером все, что приходит в голову <…> предстать неглиже перед глазами общественности» [Soffici 1921, 74].
И все же, несмотря на многочисленные заявления о спонтанном характере ведения дневника, автор продуманно чередует записи в разных стилях и жанрах, прежде всего, составляя занимательную для читателя книгу. По сути, главным принципом, легшим в основу «Журнала», становится коллажность. Соффичи заполняет своей дневник самыми разными образцами литературной продукции: размышлениями в свободной форме, афоризмами, рецензиями на книги, изысканиями в области фигуративного искусства, юмористическими зарисовками, театральными сценками, выдержками из других текстов, стихами и фрагментами лирической прозы. Так, Соффичи помещает в своей дневник «сделанные им когда-то заметки для исследовательского труда», направленного на развенчание культа Родена: «Роден желает стать “великим”. – Бездумное подражание Микельанджело и Донателло. Больше ничего человеческого, искреннего» [Soffici 1921, 14]; серию психологических наблюдений, которые скорее походят на сатирические заметки под условным названием «Мелкие наблюдения в науку влюбленным», изобилующие сальными шутками и непрезентабельными подробностями: «любовь достигает идеала, когда в любовной паре с нежностью обсуждаются слабительные и диарея (в супружеской паре тоже обсуждаются, но с безразличием)» [Soffici 1921, 114–115]; газетную сводку о количестве людей, «снимавших шляпу» перед Джокондой Леонардо Да Винчи. Заметка снабжена комментарием писателя, ниспровергающим знаменитое полотно: «они обнаружили <…> икону традиционализма // парадигму общего места» [Soffici 1921, 257] и проч.
Множество упоминаний писателей и поэтов в «Журнале» служат доказательством сугубо литературного мышления его автора, становясь частью иронической интертекстуальной игры литературными моделями и штампами. Вместе с тем Соффичи высказывает свое отношение к мэтрам, обращаясь к Леопарди в записи от 26 июня: «Я хочу быть самим собой. – Вопреки тебе, если потребуется. Ведь только так мы сможем быть достойны тебя?» [Soffici 1921, 131–132]. Соффичи именовал Леопарди «гигантом» [Papini, Soffici 1991, 76], считая его безусловным авторитетом среди итальянских классиков. Несмотря на то, что автор «Журнала» во многом ориентируется на «Zibaldone», составляя свой «дневник размышлений», он отнюдь не готов причислить себя к подражателям Леопарди. По мысли Соффичи, поиск новых форм предполагает провокационное противостояние классикам, соперничество с ними.
Интересно, что в «Бортовой журнал» Соффичи помещает немало стихотворений, написанных регулярным стихом, а кроме того содержащих рифму или ассонансы. Обращение к традиционному стиху в столь, по мысли его автора, новаторском сочинении представляется особенно непоследовательным в свете программного заявления, сделанного увлекшимся верлибрами Соффичи еще в 1907 г.: «Ни рифмы, ни метра, ни правил хочет моя песнь» [Soffici 1961, 364]. Так, например, в стихотворении под названием «Хаос» чередуются 11-слож-ник и 8-сложник; 8-сложником написаны «Улица» и «Галантный негр», состоящие из четверостиший. Кроме того, в своем «Журнале» Соффичи публикует несколько примеров мальтузианского стиха [Soffici 1921, 43, 118], особенно полюбившегося футуристам из «Лачербы» и во многом приближенного к традиционным поэтическим формам [De Benedetti 2002].
Между тем, поставив перед собой задачу достичь абсолютной искренности в первой программной записи «Журнала» от 1 января, Соффичи прежде всего имеет в виду сочинение лирических зарисовок, или же «поэтических откровений», которые ценит значительно выше, чем полемические и сатирические тексты, помещенные в дневник. По манере письма фрагменты «чистого лиризма», (именно так чаще всего их именует сам автор [Soffici 1921, 227]), близки к стилистике «prosa d’arte». Нередко лирические зарисовки снабжены названием или подзаголовком, придающим им вид отдельных, самостоятельных сочинений: «Парижский эскиз» (29 апреля), «Вечер» (30 июля), «Миланская ночь» (11 сентября), «Отдых» (24 сентября), «Зима» (6 декабря) и др.
Порой желание автора как можно более детально передать атмосферу, рождающую в его душе лирическое чувство, мешает восстановить сюжетную канву описанного события. К примеру, в записи от 31 мая под названием «Римская роза» рассказанные факты тонут в наслаивающихся друг на друга описаниях, поставленных в скобки:
Однажды летним утром (солнце как орел, застывшее посреди широкой голубизны римского неба, заливало город потоком раскаленного света), бродя в одиночестве между форумами и Палатином (ящерицы судорожно глотали воздух на пыльных лавровых листах и лежащих колоннах), я сорвал алую розу, выросшую среди руин дворца Цезарей [Soffici 1921, 108].
В представлении Соффичи, самой важной составляющей лирического фрагмента становится именно описание глубоко личного впечатления от увиденного. Будучи художником, особое внимание в своих лирических фрагментах Соффичи уделяет описанию цвета, фокусируя внимание читателя на рождающейся в воображении картине. Здесь «Алая роза» становится метафорой чудесного дара, которому отпущено совсем недолгое существование, составляющее его главную ценность.
Стараясь привести «Журнал» в соответствие со своим представлением об идеальных «книгах будущего», многим дневниковым записям Соффичи придает эпистолярную форму. Несколько записей Соффичи называет выдержками из писем знакомым дамам, упоминая лишь их инициалы. Эти записи призваны рассказать прежде всего о характере их автора и его предпочтениях в сфере любовной [Soffici 1921, 115–118]. В другой записи, стилизованной под письмо, Соффичи обращается с провокационным заявлением к некоему поклоннику своего творчества, располагающему большими денежными средствами:
…лучшим способом выразить нам свою настоящую симпатию было бы укрепить наши усилия в борьбе, оплатив – оставляя в стороне недомолвки – звонкой монетой удовольствие, которое мы доставляем своей работой! Похвалы, комплименты приятны, но они не требуют усилий и слишком мало значат [Soffici 1921, 203–204].
В манифесте нового искусства, коим и являлся «Бортовой журнал», его автор без стеснения требует материальной поддержки от сочувствующей публики, полагая, что он и его единомышленники трудятся прежде всего во благо читателя.
Ратуя за честность в творческом процессе, Соффичи кроме того размещает в своем «Журнале» отнюдь не хвалебные письма, адресованные ему самому. Одно из посланий принадлежит перу реального человека, подписывающегося своим именем и фамилией. Не получая ответа на свои критические письма, давний злопыхатель, писатель-неудачник Карло Бонетти, продолжает атаковать автора «Журнала». В своем письме он утверждает, что так называемый «маэстро кубизма» Соффичи не в состоянии провести и прямой линии, а в «Лачербе» печатаются лишь безумцы [Soffici 1921, 239–244]. С одной стороны, присутствие в «Журнале» нелестных посланий к автору важно как доказательство его максимальной искренности, характерной прежде всего для поэтики, разрабатываемой в «Воче» [La cultura italiana 1960], с другой, они гармонично вписываются в книгу благодаря насмешливому тону и общей полемической направленности сочинения Соффичи.
Несмотря на то, что в своей «книге будущего» Соффичи не скупится на похвалы единомышленникам-футуристам и прославляет их творческий метод, опубликованные в «Лачербе» фрагменты из «Бортового журнала» были восприняты в кругах футуристов как серьезное отклонение от магистральной линии. Свидетельством тому становится подлинное и отнюдь не комплиментарное письмо, размещенное Соффичи в «Бортовом журнале» 16 ноября. В послании, подписанном Боччони, Руссоло, Ф.Т. Маринетти и «давясь рвотой: твой Карра» [Soffici 1921, 164], миланские «друзья-футуристы» упрекают Со-ффичи в том, что «“Бортовой журнал” пугающе сентиментален», автор старается посредством журнала «найти себе любовницу» [Soffici 1921, 163], «неуловимую божественную подругу (окутанную лиловой меланхолией)», сам же он «тяжелейший случай», «слабак», страдающий от «застоя спермы и сердечного поноса» [Soffici 1921, 164]. В небольшом комментарии к столь ерническому письму, изобилующему оскорблениями, Соффичи признает правоту друзей и обещает «исправиться». Хотя Соффичи и принимает критику футуристов, он указывает на «три неточности» в их послании: «мои болезни, имя Дзанеллы под стихами Пиндемонте и что я ищу любовницу» [Soffici 1921, 165]. Благодаря сатирической направленности «Журнала» даже столь резкое по тону письмо органично вплетается в ткань повествования, но упреки футуристов обнажают трещину, в скором времени приведшую к окончательному расколу. Главным образом футуристам не близка лирическая составляющая прозы Соффичи, стремление передать чувства творца [Richter 1990].
Понимая искусство прежде всего как проявление «лирического сознания» (simultaneità) и «поэтической гиперчувствительности» (chimismo), Соффичи очень скоро станет противником основных положений теории Маринетти. Маринетти выступал за безоговорочное уничтожение поэтического «я», в то время как Соффичи маркировал и воспевал именно индивидуалистическую составляющую творческого процесса. Согласно представлениям Соффичи, лирическое «я» являлось центром, пропускающим через себя все чувства и мысли [Soffici 1959, 715], Маринетти, напротив, был уверен, что решающий шаг по направлению к новому искусству совершался благодаря избавлению от «я» в пользу объективности материи [Сапрыкина 2016]. В статье «Футуризм и маринеттизм» [Soffici, Papini, Palazzeschi 1915, 49], объясняющей уже состоявшееся идейное расхождение с миланским крылом футуристов, Соффичи пишет о несомненном превосходстве творчества, необусловленного никакой практической или философской надобностью.