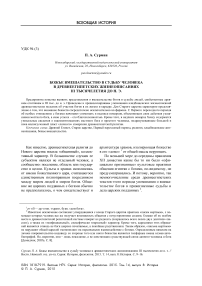Божье вмешательство в судьбу человека в древнеегипетских жизнеописаниях III тысячелетия до н. э
Автор: Сурмин Павел Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка выявить представления о вмешательстве богов в судьбы людей, свойственные древним египтянам в III тыс. до н. э. Приведены и проанализированы упоминания кладбищенских жизнеописаний древнеегипетских вельмож об участии богов в их жизни и карьере. Для Старого царства характерно представление о том, что внимание божеств сосредоточено исключительно на фараоне. С Первого переходного периода об особых отношениях с богами начинают упоминать и надписи номархов, объясняющих свои действия указаниями местного бога, а свои успехи - его благосклонностью. Кроме того, в надписи номарха Хенку содержатся уникальные сведения о взаимоотношениях местного бога и простого человека, подразумевающие большой и пока малоизученный пласт «личного» измерения древнеегипетской религии.
Древний египет, старое царство, первый переходный период, религия, кладбищенские жизнеописания, божье вмешательство
Короткий адрес: https://sciup.org/147219436
IDR: 147219436 | УДК: 94
Текст научной статьи Божье вмешательство в судьбу человека в древнеегипетских жизнеописаниях III тысячелетия до н. э
Как известно, древнеегипетская религия до Нового царства носила «общинный», коллективный характер. В большинстве случаев ее субъектом являлся не отдельный человек, а сообщество: поселение, область или государство в целом. Культы в храмах исполнялись от имени божественного царя, считавшегося единственным полноправным посредником между миром людей и миром богов. Общение же царских подданных с богами обычно не предполагалось, о чем свидетельствует и архитектура храмов, изолирующая божество в его «доме» 1 от общей массы верующих.
По меньшей мере до середины правления XII династии какие бы то ни было «официально признанные» культовые практики общения египтян с богами, по-видимому, не предусматривались. И потому, вероятно, так немногочисленны среди древнеегипетских текстов этого периода упоминания о вмешательстве богов в прижизненные судьбы и дела царских подданных 2.
Работ, специально посвященных проблеме индивидуальных взаимоотношений подданных царя с богами во время Старого царства и Первого переходного периода, крайне мало; недавно вышедшая статья Б. Лешко для раскрытия столь сложной темы совершенно недостаточна [Lesko, 2011]. Полемизируя с утверждением Б. Констана о том, что концепция милосердного бога чужда языческим религиям, Б. Лешко утверждает: «Заботливый бог был осознан египтянами гораздо раньше, чем принято считать в египтологии» [Ibid. P. 310]. Однако для подтверждения этого тезиса применительно к периодам Старого и Среднего царства она опирается главным образом на литературные тексты – «Поучение Птаххотепа» и «Поучение Мерикара». При этом ее интерпретации часто не бесспорны, а чрезвычайно важный для решения вопроса материал кладбищенских жизнеописаний почти не учитывается. Между тем касавшийся этой проблемы А. Е. Демидчик, вопреки Б. Лешко, счел свидетельства «личных» отношений египтян с богами до середины XII династии весьма скудными [Демидчик, 2005а. С. 85–104; 2005б].
Проблемы взаимоотношений человека и бога затрагиваются также в работе Е. А. Романовой. Исследовательница отмечает, что в Первый переходный период, даже при сохранении древнеегипетской религией своего общинного характера, существовала возможность для становления и развития личного благочестия. Далее, автор обозначает три его аспекта, которые были характерны для Первого переходного периода: 1) появление на частных памятниках упоминаний о связи человека и местного бога; 2) появление культов местных святых; 3) появление идеи об избранности богом некоторых людей. Несмотря на то что, в целом, замечания, сделанные Е. А. Романовой полезны, недостатком статьи является малое количество привлеченных текстовых свидетельств [2009].
В предлагаемой работе будут рассмотрены упоминания о вмешательстве богов в индивидуальные судьбы подданных фараона, содержащиеся в кладбищенских жизнеописаниях Старого царства, Первого переходного периода, а также Среднего царства. Жизнеописания – хвалебные характеристики хозяина надписи и его жизненного пути, наносимые чиновниками на стены своей гробницы, на стелы, статуи, или существующие в виде наскальных надписей. В структуре автобиографий выделяются два основных элемента – 1) титулы и хвалебные эпитеты хозяина надписи; 2) свободный нарратив, содержащий рассказ о его добродетелях и достижениях. Объектом данного исследования являются жизнеописания гробниц и стел; сведения наскальных надписей и статуй требуют специального рассмотрения и в этой статье не затрагиваются.
В Старом царстве (XXVII–XXII вв. до н. э.) не принято было прямо говорить о вмешательстве богов в судьбы и дела подданных фараона. Считалось, что даже когда боги помогали его служащим, они делали это по воле царя. Показательно, что именно государя, а не богов, славит в своем широко известном кладбищенском жизнеописании вельможа Уни, у которого получалось решать сложнейшие государственные задачи 3. Любопытным примером является надпись из гробницы Сенеджемиба Инти, служившего визирем и главным зодчим при царе V династии Джедкара Исеси [Brovarski, 2000]. Вельможа украсил свое жизнеописание редкими текстами – обращенными к нему хвалебными «письмами» самого царя. Во втором из них, высоко оценив профессиональные качества и достижения зодчего, царь восклицает: «Действительно, сотворил тебя бог на радость (букв.: “к месту сердца”. – П. С. ) Исеси» [Sethe, 1932–1933. S. 63.12]. Это редкий для Старого царства случай, когда подданный фараона указывает на определенное участие божества в собственной судьбе: по его мнению, именно бог наделил его специфическими качествами, благодаря которым он стал угоден царю. Однако даже и здесь нельзя найти непосредственной связи между Сенеджемибом Инти и богом, которая бы означала их особые взаимоотношения. Благо, оказанное здесь чиновнику, все равно понимается как услуга бога самому государю: подданный в этом случае лишь средство осуществления благосклонности бога к царю – вполне в соответствии с общим пониманием того времени.
Некоторая перемена в понимании отношений богов и людей происходит лишь в Первый переходный период (XXII–XXI вв. до н. э.). Всеобъемлющий кризис этой эпохи свидетельствовал о неспособности царя выполнять прежнюю задачу – гарантировать благой и стабильный миропорядок, а об особых отношениях с богами теперь начинают прямо упоминать надписи номархов – правителей областей.
В гробничной надписи Анхтифи, правителя III верхнеегипетского нома, его действия по захвату и обустройству соседнего II нома прямо обосновываются руководящей волей бога Хора: «Привел меня Хор во II верхнеегипетский ном (дословно: Трон Хора. – П. С. ), принадлежащий тому, кто (да пребудет) жив цел и здоров 4, чтобы (вновь) обустроить его (т. е. ном), что я и сделал. Стало быть, желал Хор обустройства его (т. е. нома), раз привел он меня в него, чтобы его обустроить» [Vandier, 1950. P. 163]. Переводившие надпись в разное время Вандье и Фехт отрицают трактовку «Хора» как царя, при этом Вандье ссылался на упоминание бога Тота в качестве «вдохновляющей силы» в хатнубских надписях [Ibid. P. 164]. Но вероятнее, что царь в данной надписи обозначен эпитетом anx wDA snb – «кто (да пребудет) жив, цел и здоров», засвидетельствованном в таком значении в седьмой строке стелы Хусебека и в первой колонке надписи Сенусерта I в Тоде [Sethe, 1928. S. 83; Barbotin, Clére, 1992. P. 12, nt. 1] 5. Таким образом, в рассматриваемой надписи Ан-хтифи ссылается на волю избравшего его бога.
Связь с богом XIII верхнеегипетского нома Упуаутом подчеркивается и в надписях асьютского номарха Хети II: «Как любим ты богом [своим городским], Хети, сын [Ити-иби]! Поручил он тебе, (так как) видит он будущее, восстановить храм его, [отстроить стены] вечности, настелить пол как прежде (букв. “настелить пол первого раза”), углубить почву (?) прежних времен» [El-Khadragy, 2008. S. 223]. Далее Хети II с удовольствием подчеркивает, что необычные для смутного времени мир и порядок гарантированы области благодаря благосклонности, выказываемой номарху мест- ным богом: «Нет грабежей имущества на улице, нет насилия по отношению к его (т. е. простолюдина) дому, потому что направляет тебя бог твой городской, отец твой, любящий тебя» [Ibid. S. 225].
Жрец Инди на стеле из Нага эд-Дер объясняет свой успех в жизни и карьере благосклонностью бога Онуриса: «Я поднялся из конца дома (?) 6 отца моего благодаря мощи Онуриса» [Dunham, 1937. P. 93. Pl. XXVIII, 2] 7. Не до конца ясно, как понимать словосочетание «конец дома». Следует упомянуть, что оно встречается и на стеле из Нага эд-Дер, принадлежащей некоему Чеби 8. Э. Гардинер [Gardiner, 1914. P. 35], а за ним Д. Данхем и Э. Броварски предположили буквальное понимание: «конец дома» – те помещения дома, где жила домашняя челядь и прислуга. В таком случае, карьера Инди – свидетельство выдающейся социальной удачи. Б. Ганн предложил понимать «конец дома» в переносном смысле: отпрыски некогда влиятельного, но теперь угасшего рода – вдовы, дети, подростки 9. Однако более вероятен перевод, предложенный Позенером для аналогичной фразы из строки 142 «Поучения Мерикара»: «конец дома» – время упадка некоего рода или семейства [Posener, 1966. P. 345]. Тогда в данной фразе предлог m будет переводиться в значении времени: «Я поднялся во время конца дома отца моего», т. е. вопреки и несмотря на утрату семьей прежнего высокого социального статуса.
«Ложная» дверь вельможи Нефериу из Дендеры, датированная Г. Фишером временем XI династии, указывает на происхождение обширного имущества хозяина надписи от местного бога: «это Аикер – тот, кто сделал (все) это для меня» [Fischer, 1968. P. 206–209]. Аналогичное утверждение встречается и на стеле Неферсефехи: «Я питал моих братьев и сестер своим имуществом, что дал мне Онурис» 10. В другой, безымянной автобиографии из Дендеры, вельможа противопоставляет полученное от предшественников и дарованное богом: «(Все это) было (достигнуто) не с помощью имущества моего отца и моей матери, (но с помощью) блага, которое мой бог сделал для меня» [Fischer, 2006. S. 24] 11. Г. Фишер отмечает, что все подобные примеры, где богатства и достижения хозяина надписи происходят от благосклонности бога – специфическая для Первого переходного периода фразеология. В аналогичных конструкциях из жизнеописаний XI династии место бога занимает уже царь: «Я снарядил себя своим собственным имуществом, которое дал мне Его Величество моего господина» [Fischer, 1960. P. 264].
Весьма туманная по смыслу фраза содержится в жизнеописании Чебу, чиновника, служившего при нескольких монархах, в том числе при Ментухотепе Небхепетра. В. Шенкель восстанавливает предложение в строке 8 следующим образом: «Я был компаньоном богу всякому», Р. Ландграфова предлагает чтение: «Я тот, кто восcоединяется с богом» [Schenkel, 1965. S. 120; Landgrafova, 2011. P. 52–53].
Примечательна автобиография чиновника из Дендеры Редиухенему. Главная тема этого необычного с точки зрения языка текста – лояльность вельможи по отношению к царице Неферукаит (супруге фараона Инио-тефа Уаханха), которой он служил при дворе и которой обязан своим назначением в Дендеру. Вероятно, такое замещение фигуры царя образом царицы стало возможно только благодаря провинциальности этого жизнеописания. Кроме того, текст содержит указание на особый статус вельможи в глазах бога: «(Я был) посохом благородным, который сотворил бог, тем, кому была дана умелость его планов и великое благородство его дел» [Landgrafova, 2011. P. 77].
Художник и ремесленник времени Мен-тухотепа Небхепетра Иртисен хвалится на своей абидосской стеле тем, что бог поучаствовал в том, что вельможе удалось воспитать наследника, такого же умелого, как и он сам: «Нет никого, кто бы вышел с этим в место всякое (т. е. добился того же самого, что и хозяин надписи), кроме меня одного
(букв. “меня, бывшего одним”. – П. С. ) вместе со старшим сыном моим, что от плоти моей, после того как бог приказал, чтобы он (т. е. сам хозяин надписи) сделал выходящего для него с этим (т. е. добившегося тех же успехов преемника – ?)» [Landgrafova, 2011. P. 82].
Уникальное упоминание о возможности лиц, подвластных номарху, лично обратиться к местному богу содержится в надписи Хенку II, правившего XII верхнеегипетской областью [Davies, 1902. P. 27–30. Pl. XXII– XXVI; Sethe, 1932–1933. S. 76–79; Kanawati, 2005. P. 60–78] 12. Среди прочего, он утверждает: «Ни разу не прогнал я человека от его имущества, (так, чтобы) жаловался он на меня из-за этого богу городскому; (…) Ни разу не оговорил я человека перед тем, кто сильнее его, (так, чтобы) жаловался он из-за этого богу» [Sethe, 1932–1933. S. 78.20–21].
Подобное высказывание встречается в «Сказке о красноречивом промысловике», герой которой Хунануп грозит царскому домоправителю: «Вот я обращаюсь к тебе с просьбой, (но) ты не слушаешь ее. Пойду (же) я и обращусь с просьбой по поводу тебя к Анубису» 13. Реальные формы, в которых человек может жаловаться богу, из обоих текстов остаются неясны. Но, если смысл высказываний правильно понят, здесь подразумевается некий еще неизученный пласт «личного» измерения религии, по своему значению, возможно, не уступающий практике «писем мертвым».
Однако в целом пока приходится отметить, что даже и в Первом переходном периоде упоминаний о божьем вмешательстве в судьбы владельцев кладбищенских жизнеописаний очень немного. И после гибели Старого царства персональное внимание к человеку богов представлялось, видимо, явлением редчайшим, исключительным. При XII династии таковых упоминаний становится и того меньше. Хотя в своих жизнеописаниях чиновники охотно выражают свою набожность – подчеркивают участие в храмовом хозяйстве, в обеспечении празднеств и регулярных жертвоприношений, и в целом рисуют свой нравственный образ как ориентирующийся на исполнение «того, что любит бог» – прямые указания на проявле- ние особого, персонального отношения бога к человеку практически отсутствуют.
Подобного особого отношения могли заслужить теперь только действительно выдающиеся личности. Ментухотеп – визирь, начальник царских работ и казначей при Сенусерте I и Аменемхате II, на своей стеле в Абидосе говорит о себе как о «том, кого бог выдвинул перед миллионом как умелого человека, чье имя он знал»; чуть выше он также, уже более скромно, именует себя «возлюбленным богом» и, далее, «тем, кто воссоединяется с богом» [Landgrafova, 2011. P. 169–178].
Другие спорадические упоминания на стелах Среднего царства об особом отношении богов к хозяину надписи уже совсем кратки и осторожны и содержатся исключительно в эпитетах. Так, начальник жрецов Упуаутаа, вполне в соответствии со своей должностью, именует себя «возлюбленным богами Тиниса» [Ibid. P. 159].
В целом, как для Среднего царства, так и для Первого переходного периода характерно то, что в эпитетах, приводимых вельможами в своих жизнеописаниях, чаще всего упоминаются именно местные боги. Так, Упуаут фигурирует в эпитетах из гробниц Асьюта 14, как и среди абидосских стел 15; Хатор упоминается в жизнеописаниях из Мейра, Тот имеет заметное место в эпитетах из эль-Берше, а также из близлежащего Хатнубского региона [Doxey, 1998. P. 84]. В надписях номархов из Бени Хасана также в большом числе употребляются эпитеты, которые демонстрируют их фавор у богов нома: Хнума, Хатхор, Хора и богини Хекат. Основную массу подобных эпитетов составляют mry n nTr и Hsy n nTr : «любимый богом» и «хвалимый богом» 16.
Наряду с этими эпитетами в автобиографиях встречаются аналогичные конструкции mry / Hsy n nswt «любимый / хвалимый царем». Как отмечает Д. Докси в своем детальном исследовании эпитетов Среднего царства, со временем, в течение правления XII династии обороты mry / Hsy n nswt практически вытесняют mry / Hsy nnTr , выдвигая царя взамен местного бога в качестве основного источника благих вмешательств в судьбу человека.
Список литературы Божье вмешательство в судьбу человека в древнеегипетских жизнеописаниях III тысячелетия до н. э
- Берлев О. Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М.: Наука, 1978. 367 с.
- Большаков А. О. Древнеегипетская царская скульптура и «хорово имя» // Вестник древней истории. 2000. № 2. С. 73-87.
- Демидчик А. Е. Безымянная пирамида: Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии (Aegyptiaca I). СПб.: Алетейя, 2005а. 272 с.
- Демидчик А. Е. Божье вмешательство в дела человека в древнеегипетских повествованиях Среднего царства // Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы Второй межрегион. конф. Новосибирск, 2005б. С. 8-13.
- Демидчик А. Е. О некоторых особенностях государственного строя Гераклеопольской монархии // Тр. Государственного Эрмитажа. СПб., 2009. Вып. 40. С. 74-82.
- Демидчик А. Е. «Начальник Верховья истинный» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 5-11.
- Романова Е. А. К проблеме личного благочестия древних египтян эпохи Первого переходного периода // Схiдний свiт. 2009. № 2. С. 113-118.
- Сказки и повести Древнего Египта. Л.: Наука, 1979. 286 с. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. М. А. Коростовцева, И. С. Кацнельсона, В. И. Кузищина. М.: Высш. шк., 1980. Ч. 1. 328 с.
- Barbotin C., Clere J.-J. L'Inscription de SesostrisIer а Tod // Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale. Le Caire, 1992. T. 91. P. 1-33. Pl. 1-31.
- Brovarski E. The Senedjemib Complex Part I: The Mastabas of Senedjemib Inti (G 2370), Khnumenti (G 2374), and Senedjemib Mehi (G 2378). Boston: Museum of Fine Arts, 2000. 515 p.
- Davies N. de G. The rock tombs of Deir el Gebrawi. London: Egypt Exploration Fund, 1902. Vol. 2. 52 p. XXIX pl.
- Doxey D. Egyptian Non-Royal Epithets in the Middle Kingdom: A Social and Historical Analysis. Leiden; Boston; Köln: Brill, 1998. 434 p.
- Dunham D. Naga ed-Der stelae of the First Intermediate Period. Boston; London: Oxford Univ. Press, 1937. 124 p. 34 pl.
- El-Khadragy M. The Decoration of the Rock-cut Chapel of Khety II at Asyut // Studien zur Altagyptischen Kultur. 2008. Bd. 37. S. 219-241.
- Fischer H. G. Dendera in the Third Millennium B. C. down to the Theban Domination of Upper Egypt. New York: J. J. Augustin Publ., 1968. 246 p.
- Fischer H. G. Marginalia IV // Gottinger Miszellen. 2006. Heft 210. S. 23-37.
- Fischer H. G. The Inscription of Ỉn-Ỉt.f, Born of Ṯfỉ // Journal of Near Eastern Studies. 1960. Vol. 19. No. 4. P. 258-268.
- Gardiner A. New literary works from Ancient Egypt // The Journal of Egyptian Archaeology. 1914. Vol. 1. P. 20-36.
- Griffith F. L. The inscriptions of Siut and Der Rifeh. London: Trubner and Co., Ludgate Hill, 1889. 12 p. 21 pl.
- Kanawati N. Deir el-Gebrawi. Oxford: Aris and Phillips Ltd., 2005. Vol. 1: The Northern Cliff. 92 p., 67 pl.
- Landgrafova R. It is My Good Name that You Should Remember: Egyptian Biographical Texts on Middle Kingdom Stelae. Prague: Faculty of Arts, Charles Univ. in Prague, 2011. 323 p.
- Lesko B. Divine Interest in Humans in Ancient Egypt // Millions of Jubilees: Studies in Honor of David P. Silverman. Cahier No. 39. Vol. 1. 2011. P. 305-313.
- Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings. Berkley; Los Angeles; London: Univ. of California Press, 1973. Vol. 1: The Old and Middle Kingdoms. 245 p.
- Posener G. Philologie et archéologie egyptiennes // Annuaire du College de France. 1966. T. 65. P. 339-346.
- Schenkel W. Memphis, Herakleopolis, Theben. Die epigraphischen Zeugnisse der 7.
- Dynastie Agyptens, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965. 306 S.
- Sethe K. Aegyptische Lesestucke: Texte des Mittleren Reiches. Leipzig: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1928. 100 S.
- Sethe K. Urkunden des Alten Reiches. 2 verbesserte Auflage. Leipzig: Hinrichs, 1932-1933. 283 S.
- Vandier J. Mo‘alla. La tombe d'Ankhtifi et la tombe de Sebekhotep. Le Caire: Imprimerie de l'Institut francais d'archéologie orientale, 1950. 315 p.