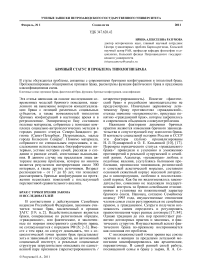Брачный статус и проблема типологии брака
Автор: Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Признаки брака, фактический брак, функции, брачные конфигурации, классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14749839
IDR: 14749839
Текст статьи Брачный статус и проблема типологии брака
Эта статья написана на основе исследования современных моделей брачного поведения, нацеленного на выяснение вопросов концептуализации брака с позиций различных социальных субъектов, а также возможностей типологии брачных конфигураций в настоящее время и в ретроспективе. Эмпирическую базу составили полевые материалы, собранные с помощью комплекса социально-антропологических методов в городах разного статуса Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Петрозаводск, малые города Кольского Севера)1. Помимо материала, собранного по специальным опросникам, в исследовании использовались биографические интервью, устные истории семей, рассказы о создании и распаде семей, спонтанные высказывания. В данном случае мы предлагаем лишь авторское видение проблемы, которое во многом является результатом интерпретации около 300 интервью, а также других источников. Возраст респондентов – от 17 до 83 лет, что позволяет рассматривать брачные конфигурации на протяжении нескольких поколений с последующей перспективой сравнительного анализа.
БРАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В соответствии с действующим Семейным кодексом Российской Федерации, законным считается только брак, заключенный в органах ЗАГС [19; п. 2]. Недействительными являются браки, совершенные по религиозным обрядам, «гражданские», или фактические, и заключенные по нормам иностранного семейного права, не согласующегося с порядком РФ [6; 2–3]. Вместе с тем вряд ли следует доказывать, что с социологической точки зрения брак представляет хоть и зависимый от государства, но автономный социальный институт, а реальные социальные структуры затруднительно описывать по единственной паре признаков (зарегистрированность / незарегистрированность). Понятие «фактический брак» в российском законодательстве не предусмотрено. Изначально церковному легитимному браку противостоял «гражданский», отсюда значение «незаконности», присущее понятию «гражданский брак», которое закрепилось в современном обыденном словоупотреблении.
Важными факторами динамики брачных практик являются изменения брачного законодательства и сопутствующей ему идеологии брака. В контексте социальной истории России и СССР эти факторы глубоко проанализированы Н. Л. Пушкаревой и О. Е. Казьминой [10], [17]. Перемены юридического статуса «гражданского брака»2 приводили к усилению и умножению противоречий в реальной супружеской и семейной жизни. Адюльтер, «незаконная» любовь и подобные явления, усугубляясь бытовыми проблемами, произволом чиновников, религиозной и советской аскетической моралью, составили основной сюжетный корпус массовой литературы и кинопродукции, особенно в послесталин-ский период. Как бы ни видоизменялось законодательство, сомнению не подлежали государственный контроль за брачно-семейными отношениями и установка на пожизненный характер брачного союза. Наконец, согласно Семейному кодексу 1995 года, имущественные отношения членов семьи стали регулироваться не семейным правом, а гражданским. Супруги получили возможность самим определять и регулировать правоотношения через разные договоры [17; 84]. Однако традиция до сих пор препятствует развитию договорных практик и законных, и фактических супругов. Имущественный аспект фактического брака по-прежнему воспринимается как основная его проблема.
С эволюционистской точки зрения все союзы мужчин и женщин за пределами легальной моногамии квалифицировались как архаические, пережиточные. В самой ранней своей работе, посвященной семье и браку у зырян, П. А. Со- рокин именно так оценил различные отклоняющиеся от классической моногамии типы отношений полов у финно-угорских народов [20; 59]. У исследователей конца ХХ – начала XXI века сформировалась иная позиция. По мнению Т. А. Бернштам, добрачные отношения молодежи и появление внебрачных детей представляли общерусскую тенденцию, имели не только архаичные корни, но и социальные причины; они не были препятствием для вступления в брак, особенно в северных областях, хотя и «сочетались с формами публичного осуждения» [3; 51]. Современные этнографы утверждают, что добрачные связи молодежи связаны с традиционной системой ритуального регулирования отношений, которая способствовала подбору брачных пар [14; 9–12]. Если принять эту точку зрения, то никак нельзя считать новационной массовую современную практику молодых пар жить совместно до заключения официального брака.
Позиции ученых по вопросу о незарегистрированных союзах кардинально расходятся. Помимо научных аргументов, на осмыслении брака сказываются национальные традиции, личные убеждения, идеологические и гендерные установки, биографический опыт исследователей. В рамках концепции «кризиса семьи» внебрачные связи категорически отрицаются и выступают симптомом институционального неблагополучия [7; 49]. Иной взгляд у интеракционистов и сторонников динамической концепции семьи, которые исходят из того, что по мере общественного развития семья не утрачивает, а модифицирует и переорганизует свои функции и структуры, проявляя достаточно высокий уровень адаптивности [26], [29], [31], [32]. Основное место в теориях брака занимают концепции брачного обмена, брачного выбора и т. п. ([2], [24], [30] и др.), «брак» выступает как обобщенная категория и ступень создания семьи безотносительно к его возможным вариациям. Отечественные исследователи начиная со второй половины 1980-х годов констатируют тенденцию к переходу от зарегистрированных браков к незарегистрированным союзам [8; 201–202], [10; 217]. Это подтверждает динамику институтов семьи, брака, родительства, родства в направлении их автономизации. Западные социологи подчеркивают, что «не столько сам институт брака переживает кризис, сколько меняется наша трактовка такого понятия, как брак» [12; 36–37]. Это позволяет на новом уровне обсуждать вопрос о «деинституционализации» брака [25], интерпретировать его по основаниям качества и стабильности [27] и рассматривать плюрализм брачных моделей как средство сохранения высшей категории межличностных отношений [28].
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
Характеристики и функции института брака недостаточно четки и в значительной части ва- риабельны [4; 66], [15; 427–429], [22; 136–143], [21; 49–50]. Каждый признак из основного набора нуждается в толковании, исключениях и комментариях. «Союз мужчины и женщины» указывает лишь на один из типов брака: разнополый моногамный. С ним можно соотнести полигамию и бигамию: «…альтернативы моногамным моделям полигамны, а в рамках славянской культурноисторической традиции бигамны» [8; 213]. Ситуации, при которых мужчина (реже – женщина) имеет фактически две семьи – «законную» и «незаконную», легче отнести к тотально распространенным, чем к ненормативным.
«Санкционированность союза законом, религией или обычаем» позволяет рассматривать «законный» брак в качестве одного из типов брачного союза. Законодательство признает права конфессий считать или не считать легитимным брак, совершенный только по религиозным или светским обрядам3.
«Сексуальная основа отношений» при последовательном учете признака дает основание включить в число брачных а) парные союзы трансвеститов, если они не признаны законом4, б) отношения любовников. Со статусами «любовников» ассоциируются, как правило, потаенность и «постыдность», они составляют альтернативу супругам, что выражается в дискредитирующем обозначении «связь» [16; 286]. Однако вариативность отношений в пространстве «супруги» – «любовники» может быть представлена как шкала, и ее полярные позиции обозначаются только теоретически. С одной стороны, в историколитературных источниках, устных воспоминаниях, современной действительности достаточно примеров того, что регистрация брака и венчание могут осуществляться тайно, долгое время скрываться от общества по причинам нравственнопсихологическим, семейно-конфликтным, криминальным и прочим. С другой стороны, отношения любовников в наши дни имеют тенденцию к открытости, в ряде случаев не являются тайной для «законных» супругов и даже признаются ими как необходимые или неизбежные, если принять во внимание многочисленность функций брака и семьи. «Постыдность» возникает в том случае, когда сексуальная функция приравнивается к «безнравственности», «инстинкту» или проституции. Однако институт «любовников» отличается от института проституции, экономического по существу, а сексуальные отношения людей в любом случае являются частью социокультуры5.
Констатация «прав и обязанностей» супругов предполагает открытость отношений для контроля. Государство и общество более или менее способны контролировать лишь отдельные стороны брака: экономическую, статусную, физическую (насилие). «Духовная близость», например, контролю не очень поддается. Неслучайно, согласно материалам проведенного нами специального эмпирического исследования, в интерпретациях брака одно из первых мест занимает категория «ответственности», имеющая больше этическое, чем юридическое обоснование6.
«Продолжительность отношений» - весьма неявный критерий. В случае законного супружества он служит показателем стабильности, в случае фактического брака - идентификатором его как такового. При наличии регистрации, даже если супруги расстались навсегда на другой день после свадьбы (например, в случае войны и последующей гибели супруга), существование брака под сомнение не ставится. Возникает вопрос: что считать нижней границей продолжительности отношений, «минимумом» фактического брака? На наш взгляд, проблема не поддается объективному решению, любые конвенции непременно будут в конфликте с позициями других субъектов.
Представляются проблемными два отчасти, но не полностью взаимосвязанных признака брака (как и семьи) - «совместное проживание» и «совместное хозяйство». Признак совместного проживания нередко включается в определения брака с оговоркой «как правило» - то есть он считается оптимальным, но не обязательным. Данные свидетельствуют, что по части успешно -сти, стабильности, функциональности равноправно могут противостоять друг другу браки с совместным, раздельным и совместнораздельным проживанием супругов. По биографическим источникам, достаточно примеров прочных браков представителей профессий, связанных с длительными разъездами; супругов, разлученных на годы волей внешних обстоятельств, и т. д. То же касается совместного ведения хозяйства. Фактические супруги, проживающие и хозяйствующие раздельно, могут, например, иметь в совместном владении и пользовании дачу, квартиру для периодических встреч, и в этом пространстве иметь общий быт, хозяйство. Возможен и другой вариант: совместное хозяйство зарегистрированных или фактических супругов в общей квартире и раздельное - дачное (на собственных или полученных в наследство участках, в загородных домах). Даже простой перечень возможных ситуаций оказывается протяженным при всей исчислимости реальных моделей. Если же оба признака относить к основным, пришлось бы обсуждать в качестве «брачных» ситуации совместного проживания и хозяйствования коммунальных жильцов самых разных категорий.
На стабильность отношений в зарегистрированном и фактическом браке действуют сходные факторы: жилищная ситуация, виды деятельности и профессии супругов, взаимоотношения с родственниками, личностные ресурсы супругов и многое другое. Одна из важных функций брака заключается в том, что он выступает в качестве средства или необходимой ступени создания иных институтов: семьи, родительства, родства. Именно поэтому фактический брак в конкретных обстоятельствах может квалифицироваться как «бесперспективный». Вместе с тем в качестве автономного института брак не рассчитан на преемственность, пресловутая «прочность» касается только глубины и интенсивности коммуникаций супругов, продолжительности их жизни и символической верности одного после смерти другого. В отношении детей фактические супруги неподконтрольны государству (напомним о налоге на бездетность).
Одна из методологических проблем изучения современных брачных конфигураций - отсутствие соотнесенности объективных и субъективных факторов определения брака. Статистические данные о незарегистрированных браках закономерно отсутствуют. В этой области открывается пространство для исследований качественными методами, но они осложняются тем, что область исследования слишком «закрыта» объектом. Изучение требует большого времени, специальной методики, связанной в том числе с личностными позициями исследователей (желательно, чтобы исследователей было больше, а их опыт и исходные установки различались).
БРАЧНЫЕ СТАТУСЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
В систему терминов родства и свойства включена подсистема терминов брака: слова, обозначающие пары и лица по их брачному состоянию, а также сами виды брака. Номинации и статусы супругов («муж», «жена») относятся к свойственным, если исходить из противопоставления родства свойству. Эксклюзивность обоих статусов связана лишь с классической моногамной семьей. От них зависит система терминов и статусов свойства. С расширением и изменением брачных структур меняется система наименований, которая является преимущественно описательной.
Обозначения форм брака разнообразны, поскольку в повседневной жизни «браком» считаются и именуются типы отношений, часто требующие уточнения. Номинации опираются на прямые, непрямые или «ложные» дихотомии: брак законный / незаконный, зарегистрированный / незарегистрированный, официальный / неофициальный, церковный («венчанный») / гражданский, «настоящий» / фиктивный, однополый («альтернативный») / разнополый («нормальный») и др. Есть порядковые значения: первый, второй браки и т. д. Уточняющий временной компонент включает брачные состояния в жизненный цикл индивида: брак бывший - настоящий - будущий. В широком смысле в систему номинаций включаются все обозначения союзов мужчин и женщин, преимущественно, но не исключительно парных и разнополых. Уточняющие термины переносятся с обозначений брачных статусов на свойственные: «бывший тесть», «вторая свекровь», «фиктивный зять», «фактическая невестка» и т. п. Описательные термины «будущий муж», «будущая жена» яв- ляются более частотными и нейтральными в сравнении с обозначениями «жених» и «невеста», которые сохраняют ритуальные значения и нередко употребляются с иронией. Нейтральным, а потому наиболее употребительным в речи молодых женщин, состоящих в «пробном браке», является обозначение «мой молодой человек». Пара наименований «молодой человек» и «девушка» вытеснили устаревшие «жених» и «невеста», что допускает неоднозначность интерпретации отношений.
Термины для лиц, состоящих в незарегистрированных парных отношениях, в русском языке неустойчивы, не согласуются с динамичной социальной ситуацией и в большей или меньшей степени не устраивают носителей языка. Слова «любовник», «любовница», отчасти устаревшие, основное значение которых связано с сексуальными отношениями [16; 286], с большой вероятностью исключающими остальные, отчасти были и остаются табуированными (например, когда речь идет о себе и близких). Поскольку сексуальные отношения – существенный и фактически «первичный» элемент супружеского союза, эти номинации можно включить в брачную номенклатуру, особенно если учесть различия в означивании отношений самими их участниками, окружением, обществом в целом, экспертами.
В настоящее время самыми частотными и обычными обозначениями любовных и «гражданско-супружеских» отношений являются «друг» (в женском словоупотреблении) и «подруга» (в мужском словоупотреблении). Семантика их расходится. Наличие «друга» у женщины может означать и собственно дружеские, и любовные отношения. «Подруга» мужчины чаще означает сексуальную (любовница) или фактическую брачную («гражданская жена») партнершу. Мужчина имеет возможность дифференцировать женщин близкого окружения, называя, например, одну «другом», другую – «подругой». Это различие социально-статусное: у «друга» и «жены» статус выше – при безусловном качественном различии этих статусов между собой7. Вариативность номинаций позволяет окружающим «за глаза» использовать то или иное обозначение для выражения собственной оценки. Официально-юридическое понятие «сожители» аксиологически является самым презрительным, оно имеет оттенок значения, связывающий с «социально неблагополучными элементами».
Как пишет современная журналистка, «несмотря на разговоры о кризисе семьи и распро -странении гражданских браков, они у нас, видимо, все-таки не настолько распространены, чтобы в языке появилось специальное слово для обозначения таких отношений» [9; 8]. Дело, разумеется, не в малой распространенности социального явления, а в вариативности его самого и отношения к нему. Речевая практика в настоящее время отражает переходную ситуацию в осмыслении брака в его различных модификациях.
О ТИПОЛОГИИ ФАКТИЧЕСКИХ БРАКОВ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Представленная в специальной и учебной литературе классификация типов брака, пытающаяся учесть разные его признаки, ориентируется преимущественно на историко-этнографический подход. Отдельные типы брака квалифицируются как «архаические» (например, «брак посещением», «гостевой», «групповой»), другие – как культурно дистанцированные (полигиния, полиандрия), третьи – как «ненормативные» (однополый). В европейской социальной истории используется категория «брачность», основанная на демографических показателях и зависимая от культурно детерминированного типа союза [23]. На наш взгляд, идя от современного материала, можно разрабатывать дробную типологию по каждому критерию брачного союза при широком понимании самого феномена.
Простейшую типологию фактических браков на российском материале предложила А. Р. Михеева, выделив в своей статье разделы «Сожительство как союз, предшествующий первому браку» и «Сожительство как повторный брачный союз» [13]. При обсуждении вопросов «гражданского брака» внимание, как правило, сосредоточено на молодых парах, которые начинают совместную жизнь, а по прошествии времени решают зарегистрировать отношения или расстаются. В последние десятилетия так называемый «пробный брак» получил широкое распространение, и общественное внимание к нему закономерно. Вместе с тем английские социологи еще десять лет назад отмечали: «…данные статистики свидетельствуют, что сожительство более распространено перед вступлением во второй брак, чем до первого брака» [12; 429]. Сравнительные исследования в этой области пока составляют перспективу.
Очевидно, что отношение к пробным бракам, особенно после повышения сексуальной грамотности населения, в российском обществе становится все более толерантным. Отчетлива тенденция к официальной регистрации брака «по беременности» или сразу после рождения ребенка. Другой распространенный вариант: принятие молодой парой, находящейся в сексуальных отношениях, совместно проживающей в течение определенного времени, решения о заключении брака вслед за решением иметь детей. Регистрация, таким образом, осмысливается как акт, обеспечивающий исключительно права ребенка, но не имеющий особого отношения к союзу мужчины и женщины. «Не хочу впутывать государство в свою личную жизнь», – широко и давно бытующее высказывание. Вместе с тем рождение ребенка уже означает, что «личные» отношения переходят в новое качество, становятся «семейными» и тем самым представляют «непременную ступень к правовому закреплению эмоционально и психологически оправ- давших себя отношений», – пишет С. И. Голод [8; 200]. Проблемы молодых семей на сегодняшний день признаются государством и обществом актуальными в связи с демографическими национальными приоритетами. В силу этого все стадии развития молодой семьи, начиная с мотивации брака, матримониального поведения, репродуктивных установок и т. д., вызывают интерес, их изучение и обсуждение популярно. Фактический брак в молодежной среде может рассматриваться как ступень создания семьи.
Что касается других форм незарегистрированных союзов, им почти не уделяется места в отечественных исследованиях, а между тем они очень разнообразны. Мы предлагаем не общую типологию, а предварительную схему к классификации отношений, которые так или иначе подходят под категорию «фактический брак». Все потенциальные критерии мы условно разделили на основные и прочие. К основным отнесены признаки, связанные непосредственно со статусом фактического брака, то есть по типологической характеристике союза, выделенного на основе оппозиции формальности / неформальности, с учетом последовательности брачных событий в жизни индивида и его семьи (семей). В течение жизни индивид не только состоит или не состоит в браке в тот или иной период, он вступает в браки различного типа. С помощью биографического метода прослеживаются разнообразные брачные траектории людей, факторы, влияющие на количество браков, их статус, интервалы между ними. При этом следует учитывать брачные события в жизни обоих партнеров, а также мотивирующие их обстоятельства. Все это создает разновидности брачных моделей8.
Субъективный фактор при идентификации брака не менее важен, чем при определении круга родственников или собственной семьи. Использование качественных методов, как и применительно к другим объектам, позволяет выяснить характер осмысления, переживания и оценки конкретных браков самими участниками, а также представителями окружения разной степени близости или дальности, разных социальных и этических позиций и т. п. Уверенно можно предположить, что признаки фактического брака будут варьировать шире, чем признаки официального брака. Это касается отнюдь не только субъективных аспектов: семейной идеологии, знаний о правах и обязанностях супругов, представлений о «нормальном» браке. Современное законодательство, со своей стороны, оставляет широкие возможности для вариаций определения признаков брачного состояния, поскольку абсолютное значение имеет только «зарегистрированность». Однако даже в этом случае возможны проблемы с идентификацией, о чем свидетельствует, в частности, категория «фиктивного брака». В случаях и формального, и фактического супружества существует значительный разброс мнений в отношении признаков, которые мы отнесли к категории «прочих» – отнюдь не по малой значимости. По данным признакам в полной мере не определилось ни государство (за исключением вопросов собственности, имущества супругов), ни эксперты в лице специалистов-социологов, ни общественность.
Предложенная ниже схема является рабочей, с чем связана недостаточная детализация отдельных позиций. Тем не менее считаем возможным представить ее сокращенный вариант как начальное основание будущей более строгой типологии.
РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СХЕМА
-
I. Статус фактического брака в синхронии и диахронии (системе жизненного цикла супругов).
-
1. «Пробный» брак молодой пары.
-
2. Послеразводный фактический брак:
-
2.1. После развода одной или обеих сторон;
-
2.2. Продолжение фактических брачных отношений после официального расторжения брака (реального или фиктивного развода);
-
2.3. Возобновление отношений супругов после развода и перерыва контактов.
-
-
3. После утраты супруга:
-
3.1. Одной стороной (вторая сторона – после развода или ранее не имела супруга);
-
3.2. Обеими сторонами.
-
-
4. Бигамный брак:
-
4.1. При наличии зарегистрированного брака у одной или обеих сторон;
-
4.1.1. При нежелании расторжения зарегистрированного брака;
-
4.1.2. При невозможности расторжения предшествующего или регистрации данного брака по законным основаниям (случаи, предусмотренные законодательством);
-
-
4.2. Обе стороны не состоят в зарегистрированном браке.
-
-
5. Полигамный брак – при наличии зарегистрированного и двух (и более) фактических браков у одной или обеих сторон.
-
II. Прочие группы переменных.
-
1. Функции фактического брака (состав, конфигурация, иерархия).
-
2. Наличие / отсутствие негосударственной социальной санкции на брак (родителями одной или обеих сторон, друзьями, референтной группой, общественной или любой неформальной организацией и пр.).
-
3. Открытость / анонимность (степень открытости для разных категорий окружающих).
-
4. Наличие / отсутствие ребенка (детей) у одной или обеих сторон в фактическом браке и до него.
-
5. Порядок (первый, второй и т. д.) в ряду брачных событий каждого супруга.
-
6. Способ проживания (совместное, раздельное, совместно-раздельное – с дифференцирующими показателями).
-
7. Ведение хозяйства (в соответствии со способом проживания и дифференцирующими показателями).
-
8. Отношения собственности.
-
9. Продолжительность фактических брачных отношений.
-
10. Формы коммуникаций (в соотношении с функциями брака).
-
11. Глубина коммуникаций (значение, качество).
-
12. Интенсивность коммуникаций (частота, разнообразие, регулярность).
-
13. Установки фактических супругов (обоюдные или различные):
-
13.1. На узаконение брака,
-
13.2. На продолжительность брака,
-
13.3. Прочие (в соответствии с различными переменными).
-
-
14. Динамика брачного статуса (последующая регистрация, венчание, сохранение статуса фактического брака).
-
15. Социальные характеристики супругов.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
При типологии фактических браков в первую очередь учитываются их сущностные (статусные) и структурно-функциональные характеристики. Вместе с тем имеют значение факторы, инициирующие существование тех или иных типов. Сложность составляет динамика брачных отношений: фактический брак может завершиться регистрацией или сохранять свой статус. Желательно учитывать и систематизировать не только типы, но и динамические модели отношений. Для определения статуса конкретного союза приходится иметь в виду исходную и перспективную ситуации, связанные с объективными возможностями (условиями) и субъективными установками партнеров, которые и определяют тип фактического союза.
Вопрос о соотношении функций институтов брака и семьи, если их считать относительно автономными, согласно принятой нами концепции, остается недостаточно проясненным. Официальный и неофициальный брак выполняют ряд одинаковых функций: обеспечение душевной и сексуальной близости, коммуникации, экономической поддержки, эмоциональнопсихологической поддержки, совместного досуга, создания семьи, включающей детей и других родственников, и др. Поскольку в случае брака мы имеем дело с супружеской моделью, а не де-тоцентристской, на первом месте оказывается метафункция стабилизации взрослых. Кроме того, фактический брак в сравнении с зарегистрированным и по отношению к нему выполняет дополнительные специфические функции. Анализ и систематизация этих функций составляет предмет отдельных исследований. Ограничимся очевидными.
Фактический брак, называемый «пробным», а) выполняет роль своего рода фильтра, способствующего оптимизации подбора брачных пар; б) адаптирует к последующей брачной жизни, это касается и конкретного брака, и брачного состояния как такового, особенно если речь идет о младших возрастных группах и о лицах, долго не вступавших в брак; в) способствует формированию у индивида личной семейной идеологии (представлений о желательных и нежелательных обязанностях и правах); г) облегчает процедуру расторжения брака и, по-видимому, имеет ряд других функций.
При идентификации функций фактического брака очевидна двойственность многих из них: плюсы оборачиваются минусами и наоборот. Дело даже не в гендерной асимметрии. Принято считать, что женщины больше, чем мужчины, заинтересованы в легитимации брака, которая ассоциируется с его стабильностью. Данный стереотип, если принять его как гипотезу, не может пока считаться подтвержденным, поскольку достаточно примеров того, что регистрировать брак не хочет именно женщина. Важно прояснить, что, кого и в каких случаях стабилизирует или дестабилизирует фактический брак.
Неформальный брак может социально, психологически стабилизировать лиц, переживших неудачный брак и развод или, напротив, очень счастливое супружество. Для людей старших возрастных групп, воспитанных в идеологии «пожизненного» брака, смена партнера независимо от качества отношений в конкретном случае достаточно болезненна и сопряжена с этическими барьерами. То же касается фобий, связанных с возрастными, социальными, этническими и прочими дистанциями между супругами, физическим их состоянием. Чрезвычайно важным фактором, влияющим на решение о статусе повторного супружества, является страх, касающийся обеспечения имущественных прав детей от первого брака. Люди, социализировавшиеся в советский период, слабо информированы о возможности решать такие проблемы юридическим (договорным) путем или не верят в него. Большое значение имеет также отношение ближайших родственников: ситуация потенциально конфликтна или оценивается в качестве таковой. Конфликтность в значительной мере поддержана классической литературой, драматургией, кинофильмами.
Таким образом, функционально фактический брак связан с проблемами послеразводной семьи и семьи овдовевших лиц. Одновременно он может стабилизировать не только самих брачных партнеров, но их ближайших родственников, друзей, если те в силу каких-либо из отмеченных причин опасались этого брака. Различные препятствия к официальному браку (нравственного, имущественного, социального, психологического характера) преодолеваются полностью или частично благодаря возможности фактических, «свободных» отношений. Особо подчеркнем: не имеет значения, объективные это препятствия или мыслимые. Те и другие для индивидов реальны в равной степени.
Есть еще одна функция фактического брака, которая при определенных условиях лишает его преимуществ. «Привлекательность и одновременно сложность указанных отношений заключены в идее состязательности, постоянном подтверждении своего духовного и физического потенциала», – заметил С. И. Голод [8; 200]. Надо полагать, чем моложе фактические супруги, тем более функциональным в этом отношении является их брак. Ослабленный внешний контроль и легкость расторжения отношений требуют самоконтроля, поддержания интереса друг к другу, сохранения физической формы, заботы о психологическом комфорте партнера и т. д. Не для всех приемлемо такое постоянное напряжение. К позитивным стереотипам в оценках фактического брака относятся утверждения, что партнеры (прежде всего женщины) в фактическом браке «лучше сохраняются», к амбивалентным – рассуждения о большей «свободе» отношений супругов вне данного брака, к негативным – высказывания о «бесперспективности» отношений.
Одна из основных функций фактического брака – компенсаторная. В первую очередь это касается такой распространенной формы бигамии, при которой наряду с фактическим браком имеется официальный. Законный брак может быть дисфункционален в отношении отдельных функций: сексуальной, досуговой, эмоциональной, репродуктивной, любой другой. Эту функцию (или несколько) компенсирует одновременный фактический брак. В случае последовательности официального и фактического браков немаловажной может оказаться сама «инаковость» последнего, если предыдущий, официальный, брак рассматривался как неудовлетворительный.
В отличие от формального брака, который не всегда легко расторгнуть и который часто воспринимается как средоточие «обязанностей», фактический брак способен стать более эффективным средством избавления от одиночества. Это в высшей степени касается пожилых одиноких людей, для которых проблемы детей (отсутствующих вообще или отделившихся), имущества, собственного отдельного жилья утратили актуальность, а вопрос о прочности, долговременности союза является риторическим.
В конечном счете дело исследователей отказать фактическому браку в праве на само именование, оставив за этим понятием только значение официально санкционированного союза, и так же условиться о номинациях «супруги», «муж», «жена». Для совокупности же социальных явлений, которые объединяются понятием фактического брака, а «в народе» называются браком гражданским, можно ввести иное понятие, и оно должно быть дифференцировано. Понимание феномена фактического брака возможно лишь при анализе того, как он воспринимается общественным сознанием и выражается в языке. Это очень сложная задача, поскольку сами партнеры слишком часто по-разному воспринимают и обозначают свое гражданское состояние. В целом успешность фактического брака, как, впрочем, и зарегистрированного, зависит от того, насколько супругам удается согласовать свои позиции в отношении к браку как таковому и взаимно считать себя полноправными супругами (или кем-то иным?).
Исследование выполнено при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» по проекту Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН «Семейно-родственные общности как агенты культурных инноваций».
Список литературы Брачный статус и проблема типологии брака
- Антонов А. И. Микросоциология семьи. М.: ИНФРА-М, 2005. 368 с. Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках: Пер. с англ.//THESIS. 1994. Вып. 6. № 6. С. 12-36.
- Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX -начала ХХ вв. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л.: Наука, 1988. 227 с.
- Большой юридический словарь/Под ред. А. Я. Сухарева и др. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 856 с.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов/Пер. с англ. А. Д. Шмелева. М.: Языки славянской культуры, 2001. 288 с. Вишнякова А. В., Хинчук В. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Юридическая фирма «Контракт»: Издательский дом «ИНФРА-М», 2009. 288 с.
- Гаспарян Ю. А. Семья на пороге XXI века (социологические проблемы). СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1999. 320 с.
- Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 272 с.
- Гражданский брак: за и против//Костромская народная газета. 2010. № 27/7. С. 8.
- Казьмина О., Пушкарева Н. Брак в России ХХ века: традиционные установки и инновационные эксперименты//Семейные узы: Модели для сборки: Сб. статей. Кн. 1/Сост. и ред. Н. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 185-218.
- Клецин А. А. Очерк истории социологии семьи в России (конец XIX -XX в.). СПб.: Петрополис, 2000. 114 с.
- Лоусон Т., Гэррод Д ж. Социология. А-Я: Словарь-справочник: Пер. с англ. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 608 с.
- Михеева А. Р. Сожительство в сибирской деревне: опыт ретроспективного анализа//Семья в России. 1996. № 2. С. 48-63.
- Несанелис Д. А., Семенов В. А. Долгий путь Питирима Сорокина//Сорокин П. Этнографические этюды (Сборник этнографических статей П. А. Сорокина). Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1999. С. 4-17.
- Новая российская энциклопедия: В 12 т. Т. III (1). М.: Энциклопедия: Издательский дом «ИНФРА-М», 2007. 480 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. 16-е изд., испр./Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1984. 797 с.
- Пушкарева Н. Л., Казьмина О. Е. Российская система законов о браке в ХХ в. и традиционные установки//Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 67-89.
- Разумова И. А., Левенец Т. С. Способы интерпретации фактического брака//Труды Кольского научного центра РАН. Сер. «Гуманитарные исследования». Вып. 1. (В печати.)
- Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 ию-ня 2008 г. № 106-ФЗ.
- Сорокин П. А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян//Сорокин П. Этнографические этюды (Сборник этнографических статей П. А. Сорокина). Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1999. С. 52-67.
- Социологический словарь/Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. М. В. Ломоносова/Отв. ред.
- Г. В. Осипов, П. Н. Московичев. М.: Норма, 2008. 608 с.
- Социология: Энциклопедия. Минск: Книжный дом, 2003. 1312 с.
- Хаджнал Д ж. Европейский тип брачности в ретроспективе//Брачность, рождаемость, семья за три века. М.: Статистика, 1979. С. 14-69.
- Хоманс Д ж. Социальное поведение как обмен//Современная зарубежная социальная психология: Пер. с англ./Под ред. Г. М. Андреевой и др. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 82-91.
- Andrew J. Cherlin. The Deinstitutionalization of American Marriage//Journal of Marriage and the Family, 66. 2004. November. P. 848-861.
- Burgess E. The family from institution to companionship. N. Y.: American Book Company, 1963.
- Claire M. Kamp Dush, Catherine L. Cohan & Paul R. Amato. The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohorts?//Journal of Marriage and the Family, 65. 2003. August. P. 539-549.
- Eric M. Cave. Marital Pluralism: Safer for Love//Journal of Social Philosophy. 2003. Fall. Vol. 34. № 3. P. 331-337.
- Goode W. J. The Many Forms of the Family//Life in families/Ed. By Helen MacGill Hughes. Boston, 1971.
- Mu r s t e i n B. Stimulus-Value-Role: A Theory of Marital Choice//Journal of Marriage and the Family. 1970. Vol. 32. P. 465-481.
- Shorter E. The Making of the Modern Family. London, 1979.
- The European Family: Patriarchy to Partnership/Eds. M Mitterauer., R Sieder. Oxford, 1982.