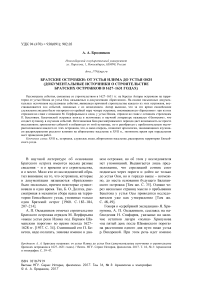Братские острожки: от устья Илима до устья Оки (документальные источники о строительстве братских острожков в 1627-1631 годах)
Автор: Бродников Александр Ананьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены события, связанные со строительством в 1627-1631 гг. на берегах Ангары острожков на территории от устья Илима до устья Оки, называемых в документации «Братскими». На основе письменных документальных источников исследованы события, явившиеся причиной строительства каждого из этих острожков, восстанавливается ход событий, связанных с их возведением. Автор выяснил, что за это время енисейскими служилыми людьми было построено по крайней мере четыре острожка, именовавшихся «Братскими»: три из них отрядами во главе с атаманом М. Перфирьевым и один, у устья Илима, отрядом во главе с сотником стрелецким П. Бекетовым. Бекетовский острожек иногда в источниках и научной литературе назывался «Илимским», что создает путаницу в изучении событий. Источниковая база рассматриваемого периода дает возможность не просто восстановить хронологию событий и избавиться от этой путаницы, но и разобраться с приблизительным месторасположением каждого из этих острожков, что, в свою очередь, позволяет археологам, занимающимся изучением распространения русского влияния на аборигенное население в XVII в., экономить время при определении мест проведения работ.
Xvii в., острожки, аборигенное население, служилые люди, расширение территории енисейского уезда
Короткий адрес: https://sciup.org/147219747
IDR: 147219747 | УДК: 94
Текст научной статьи Братские острожки: от устья Илима до устья Оки (документальные источники о строительстве братских острожков в 1627-1631 годах)
В научной литературе об основании Братского острога имеются весьма разные сведения – и о времени его строительства, и о месте. Мало кто из исследователей обратил внимание на то, что острожков, которые в документации называются «Братскими» было несколько, причем некоторые существовали в одно время. Так, Б. О. Долгих, рассматривая в механизм сбора ясака на территории Енисейского уезда, упоминал только один Братский острог [1960. С. 183–184, 207–214].
А. П. Окладников отмечал строительство Братского острожка отрядом М. Перфирьева «выше устья реки Илима под Первым Шаманским порогом» во время похода 1627– 1628 гг. [1937. С. 34]. Сменивший его П. Бекетов, надо полагать, зимовал именно в дан- ном острожке, но об этом у исследователя нет упоминаний. Выдвигается лишь предположение, что стрелецкий сотник смог подняться через пороги и дойти не только до устья Оки, но и гораздо выше – возможно, до места основания будущего Балаган-ского острожка [Там же. С. 35]. Однако через несколько страниц мысли о пребывании Бекетова у устья Осы приводятся исследователем уже как утверждение [Там же. С. 48, 49].
Говоря о «серебряной экспедиции» Я. Хрипунова, А. П. Окладников, ссылаясь на наблюдения Н. Спафария, указывал на наличие остатков лагеря «полка» Хрипунова «на пятый день после Шаманского порога» на расстоянии одного дня пути ниже устья р. Вихоревой. При этом речь идет именно
Бродников А. А. Братские острожки: от устья Илима до устья Оки (документальные источники о строительстве братских острожков в 1627–1631 годах) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 3: Археология и этнография. С. 39–47.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 3: Археология и этнография
о лагере, где на какое-то время хрипуновцы оставили свои припасы («кош»), откуда они ходили в земли бурят и где подверглись нападению со стороны тунгусов [Окладников, 1937. С. 48]. Однако вслед за этим историк утверждал, что, походив по Ангаре, на месте этого лагеря Хрипунов поставил острожек, который «очевидно... и был тем Усть-Илимским острожком, который остался после похода Я. Хрипунова на Ангаре под названием Братского, что у Братских порогов» [Там же. С. 49]. Только вот от устья Илима до Шаманского порога расстояние преодолевалось еще за два «днища» 1, и, таким образом, место, где, по мнению А. П. Окладникова, был поставлен хрипуновский острожек, находилось в неделе пути от устья Илима. Получается, что острожек, построенный М. Перфирьевым под Шаманским порогом, получил название Братского, а построенный позднее отрядом Я. Хрипунова на пять дней пути выше его, получил название Усть-Илимского или тоже Братского.
Еще одна версия – Д. Я. Резун и Р. С. Васильевский утверждают, что Братский острог, а точнее «небольшое зимовье в устье р. Оки», заложил в 1629 г. П. Бекетов. В 1630 г. в этом зимовье побывал Я. Хрипунов со своей экспедицией, из-за действий которого в отношении аборигенного населения после его ухода зимовье было сожжено окинскими бурятами. А тот Братский острог, который упоминается в документальных источниках последующего времени, был основан в 1631 г. М. Перфирьевым у Падунских порогов [Васильевский, Резун, 1989. С. 113].
Попытаемся восстановить цепь событий и разобраться с многообразием «Братских» острожков.
Первым в районе Братских порогов побывал М. Перфирьев, еще в чине подьячего отправленный в конце лета 1626 г. воеводой А. Ошаниным во главе отряда енисейских служилых людей. Он первым сообщил подробные сведения о богатствах бурятской земли – о «многолюдстве», урожайности («хлеб пашут ячмень и гречю») и ископаемых («серебра добре много») [Оглоблин, 1900. С. 116–117] 2. В результате экспедиции, закончившейся в конце весны – начале лета 1627 г., было собрано большое количество пушнины с ангарских бурят и тунгусов. При этом где именно зимовали участники похода, в источниках не сообщается. Но сам факт зимовки отряда енисейцев под Братскими порогами приводит к выводу о том, что строительство служилыми людьми каких-либо зимовий, небольших укреплений было делом обыденным и не привлекало внимания авторов отписок и прочей документации того времени. А уж последующая судьба этих строений определялась их стратегическим расположением, многолюдностью данной территории и прочими обстоятельствами.
Судя по всему, первым из «Братских» острожков появился тот, который атаман М. Перфирьев со своим отрядом поставил во время второго похода осенью 1627 г. под первым Братским порогом, имевшим название Шаманский, который был в двух днях пути выше устья Илима («в двух днищах») 3. Как и ранее, служилые люди приводили «под государеву руку» еще не платившие ясак родовые группы тунгусов и впервые стали собирать ясак с окинских бурят. Но вот важное обстоятельство: отряд М. Пер-фирьева перезимовал в этом острожке 4. Иначе говоря, енисейские служилые люди во время этого похода впервые действовали на Средней Ангаре как годовальщики.
В книге ясачного сбора за 136 г. (1627– 1628) среди «новых землиц под Брацким порогом», где собирал ясак М. Перфирьев, перечисляются следующие князцы и «землицы»: шамагирский князец Когоня, чипо-гурские и лапагирские тунгусы, наляги князца Корюбыля, мунгумы князца Едока 5.
В Енисейском остроге построенный М. Перфирьевым Братский острожек, судя по всему, сразу стали рассматривать как опорный пункт на удаленной окраине уезда: в течение зимы между новым енисейским воеводой В. Аргамаковым и атаманом Пер-фирьевым велась переписка о дальнейших его действиях в «новых землицах». А с наступлением следующей навигации, летом 1628 г., на смену М. Перфирьеву был послан П. Бекетов с отрядом в 30 человек: «на... государеву службу для ясашного збору в Тунгуску под Братцкой порог и в Братц- кую землю на годовую (курсив наш. – А. Б.)» 6. Поставленные перед П. Бекетовым задачи совершенно понятны: расположившись на годовую службу в острожке под порогом, собрать ясак с ранее «приведенных под государеву руку» тунгусов и бурят и пытаться привлечь в ясачный платеж людей из «новых землиц». Таким образом, построенный М. Перфирьевым острожек становился базовым пунктом для дальнейшего расширения территории Енисейского уезда вверх по Ангаре и одновременно закреплял уже объясаченные «землицы».
Казалось бы, Братский острожек построен в достаточно удобном для возлагаемых на него функций месте и на какое-то время на этой территории достигнута стабильность. Зимой 1628–1629 гг. Бекетов отправил в Енисейск отписку из Братского острожка, сообщил, что ясак с ранее объя-саченных тунгусов и бурят собран, хоть и в небольшом количестве – всего 47 соболей, а вот дальше, в отдаленные бурятские улусы по Оке до ледостава он пройти не успел 7. Более того, даже давшие ясак буряты говорили, что с себя ему ясаку дали мало, так как уже не ждали в этом году к себе служилых людей и соболей «пасли мало». Они же предложили стрелецкому сотнику быть у них на весну, обещая подготовить достаточное количество соболей. Отписка эта была отправлена в Енисейский острог со стрельцами Иваном Обуховым и Елфимом Михайловым, которые сами ходили для ясачного сбора в Братскую землю 8.
29 января 1629 г. из Енисейска в Братский острожек была отправлена память со служилым человеком Васькой Сумароковым «с товарыщи». Енисейский воевода хвалил Бекетова за выполненную службу и договоренность с бурятами и отправил для ясачных людей государево жалованье «братским людям – олова в блюдах». Одновременно В. Аргамаков проинформировал П. Бекетова о возникших в Енисейске проблемах: осенью 1628 г. на Маковский волок прибыл возглавивший «серебряную экспедицию» воевода Я. Хрипунов. Имея под рукой 150 человек служилых людей из разных городов Западной Сибири, он «отнял насилством» у енисейских служилых людей «колмыцкого толмача Гришку Яковлева», который был прислан в Енисейск из Тобольска и которого В. Аргамаков собирался прислать в Братский острожек с В. Сумароковым 9.
Поскольку у енисейского воеводы возникли опасения относительно реальных намерений Я. Хрипунова (будет не серебро искать, а собирать пушнину с аборигенного населения. – А. Б. ), он дал П. Бекетову задание попытаться предвосхитить возможные действия воеводы «серебряной экспедиции». Стрелецкому сотнику надлежало, как получит эту память, «на усть Илима или где» со служилыми людьми выбрать «крепкое и угожее место» и поставить там острог со всеми укреплениями, с избами и амбарами, «чтоб Яков Хрипунов Илим реки не отнял и ясаку по Илиму збирать не послал» 10. Иначе говоря, П. Бекетов получил приказ построить острожек поближе к устью Илима, где ранее уже собирали ясак енисейские служилые люди. Острог следовало строить наспех, не дожидаясь схода снега. Притом, что из Енисейского острога Я. Хрипунов со своим «полком» мог отправиться по Ангаре не ранее начала мая, только после ангарского ледохода и, следовательно, прибыть к устью Илима, учитывая транспортировку запасов и имущества экспедиции, не ранее середины – конца августа 11.
Лишь после того, как будет поставлен этот острог и вскроется лед на реке, П. Бекетову разрешалось продолжить основную службу и «раденье»: выбрать служилых людей, «сколько человек пригоже, смотря по тамошней мере», в том числе и Ваську Сумарокова «с товарыщи», взять у промышленных людей «струг добрый», а им отдать свой струг и идти в братскую землю для ясачного сбору «по полой воде не мешкая». Собрав ясак, Бекетову предписывалось «ехать в Енисейский острог не мешкая, чтоб к государю отпуск не запоздал». Хотя здесь, на наш взгляд, просматривается и беспокойство воеводы Аргамакова относительно возможных посягательств Я. Хрипунова на собранную людьми Бекетова пушнину. В заключение этой памяти Бекетову предписывается оставить в острожке небольшой гар- низон, «выбрав пять человек» 12. Правда, из текста документа не понятно, идет речь об острожке под Шаманским порогом или о новом, который сотник стрелецкий должен будет построить неподалеку от устья Илима.
Построил П. Бекетов острожек в устье Илима или нет – из имеющихся у нас источников не ясно. Каких-либо отписок стрелецкого сотника об этом не сохранилось, как и его послужных списков со ссылкой на строительство этого острожка. Не известны и какие-либо нарекания Бекетову со стороны воеводы В. Аргамакова по поводу невыполнения его указания о строительстве острожка.
Тем не менее второй «Братский» острожек в устье Илима в 1629 г. был построен. Если его поставили енисейские служилые люди из отряда П. Бекетова, то, по нашему мнению, это должно было произойти не позднее середины мая, до ледохода, после чего годовальщикам надо было расходиться по тайге для сбора ясака. Если его построили служилые люди из отряда воеводы Я. Хрипунова, то время строительства отодвигается на конец лета – начало осени 1629 г. Но вероятнее всего, «полк» воеводы Хрипунова прошел до того места, где на некоторое время остановился со своим «кошем», не доходя до устья р. Вихоревой, как пишет А. П. Окладников [1937. С. 48], а после грабежа местного населения, перед ледоставом, вернулся к устью Илима, где и занял построенный П. Бекетовым острожек.
Есть и другая точка зрения относительно истории строительства этого острожка в устье Илима. По мнению Д. Я. Резуна и Р. С. Васильевского, Илимский острог заложил И. Галкин, когда по пути на Лену остановился в устье Илима. Правда, далее говорится, что зимовье было поставлено «при Сумине-ручье», откуда «шел волок на р. Муку», относящуюся уже к бассейну Лены [Васильевский, Резун, 1989. С. 149]. Надо полагать, что в работе Д. Я. Резуна и Р. С. Васильевского речь идет все же об Илимском зимовье, ставшим впоследствии центром Илимского волока, а упоминание в тексте устья Илима – или оговорка авторов, или упоминание совсем другого события, которое у них смешалось со строительством Илимского острожка на волоке.
Что касается похода воеводы Я. Хрипунова вверх по Ангаре, то произошло следующее. «Полк» его, численностью в 150 человек 13 отправился из Енисейского острога в начале навигации 1629 г. Так как экспедиция имела достаточно большое имущество, вполне очевидно, что ее участникам необходимо было где-то остановиться на зимовку и обеспечить сохранность этого имущества и запасов. Как пишет Г. Ф. Миллер, выбрано было место в устье р. Илим [2005. С. 45, 149. Прилож. 11]. Но занял Хрипунов уже построенный острожек, или его построили служилые люди из его «полка», историк не сообщает. В любом случае именно из этого острожка Я. Хрипунов отправил на Лену тридцать человек из своего отряда, а с остальными пошел вверх по Ангаре «в Братцкую землю лехким делом», оставив в острожке для охраны имущества экспедиции 20 человек служилых людей [Там же]. Этот поход вылился в грабеж бурят совместно со взбунтовавшимися красноярскими казаками, что подробно рассмотрено А. П. Окладниковым [1937. С. 49–55].
Даже если принять версию, что острожек в устье Илима был построен хрипуновцами, точное время остается не известным. Но в любом случае во второй половине октября 1629 г. он уже существовал. Об этом свидетельствует отписка енисейского стрелецкого десятника Василия Бугра, отправленного в том году на Илим собирать ясак. После участия хрипуновцев в инициированном красноярцами набеге на бурят Я. Хрипунов продолжил вмешиваться в процесс сбора ясака в этом районе, чего и опасался, по нашему мнению, воевода В. Аргамаков. 21 октября 1629 г. енисейский стрелецкий десятник В. Бугор с еще одним служилым человеком и с толмачом отправились для сбора ясака на р. Куту. С ними вместе пошли люди Я. Хрипунова: два человека служилых людей да толмач. Вместе они взяли ясак с ранее объясаченного енисейцами князца Аки-неги и с новой группы тунгусов, с «новых людей сатягов». Но на р. Игирме, притоке Илима, люди Хрипунова весь ясак сборщиков забрали и унесли в Илимское (Усть-Илимское. – А. Б .) зимовье, где руководитель «серебряной экспедиции» определил, кому что из собранной пушнины оставить: т. е. в документации построенное в устье
Илима укрепление называлось зимовьем. В результате взятые с тунгусов-налягов две шубы Яков оставил себе, хотя, по мнению енисейцев, вся собранная пушнина должна была быть поделена поровну, так как ходили ее собирать вместе – «за един человек» 14.
Надо полагать, что острожек в устье Илима если и был поставлен людьми из отряда Я. Хрипунова, то даже не в середине октября, а гораздо раньше, так как грабившие совместно с хрипуновцами аборигенное население Приангарья красноярские казаки успели вернуться в Енисейский острог еще до ледостава, как указывает А. П. Окладников, «о заморозе», 11–15 октября [1937. С. 55]. Следовательно, острожек поставлен не позднее начала сентября 1629 г. Очевидно, что хрипуновцам пришлось все же проводить какие-то работы по строительству дополнительных изб для себя, так как построенное отрядом Бекетова жилье не могло вместить такое количество людей.
В связи с произошедшими грабежами бурят красноярскими казаками и служилыми людьми из отряда Я. Хрипунова енисейской администрации было понятно, что теперь собирать ясак с населения «Братской землицы» и приводить под государеву руку другие «новые землицы» будет очень не просто. Поэтому 14 марта 1630 г. в Братскую землю для решения проблемы «замирения» бурят были отправлены енисейские служилые люди десятник Вихорко Савин и стрелец Сидорко Аникеев 15. 8 апреля они пришли к устью Илима. В их челобитной, отправленной позднее в Енисейский острог, Илимский острожек назван зимовьем, но отмечается, что у него были ворота 16. Подьячий М. Перфирьев, принявший на себя после смерти Я. Хрипунова (скончался 18 февраля 1630 г.) [Миллер, 2005. С. 45, 149. Прилож. 11] не столько командование его отрядом, сколько обязанность по сохранению остатков имущества экспедиции, поставил их к себе на подворье. В. Савин и С. Аникеев по поручению очередного енисейского воеводы князя С. И. Шаховского должны были с несколькими пленными бурятами, захваченными по осени краснояр- скими казаками и отобранными у них в Енисейске по приказу воеводы, побывать в бурятских улусах и в качестве своих добрых намерений сказать государево жалованное слово, представить бурятам пленников, чтобы те подтвердили, что в Енисейске с ними обращаются хорошо, а красноярцы действовали не по государеву указу. Однако в зимовье из-за пленников вспыхнул конфликт: часть участников «серебряной экспедиции» высказалась за необходимость отобрать пленных. В итоге дошло до драки, в ходе которой одного бурятского подростка убили ослопом. А привезенные из Енисейска две бурятки подверглись групповому изнасилованию 17.
Позднее, когда В. Савин и С. Аникеев отправились к окинским бурятам, те, озлобленные после их осеннего разгрома красноярцами и хрипуновцами, оказали ожидаемое сопротивление. В результате В. Савин был убит, а С. Аникееву удалось спастись только благодаря помощи тунгуса [Окладников, 1937. С. 58–59] 18.
Как долго продолжал функционировать острожек в устье Илима после ухода из него участников экспедиции Я. Хрипунова, нам не известно. Единственное его упоминание после событий, связанных с экспедицией Я. Хрипунова, относится к осени 1630 г., о чем речь пойдет далее. Участники «серебряной экспедиции» во главе с М. Перфирье-вым вернулись с имуществом в Енисейский острог в июне 1630 г. 19
Решением нового енисейского воеводы князя С. Шаховского Перфирьев был снова назначен атаманом и уже 3 августа 1630 г. вновь отправлен под Братские пороги для «замирения» тунгусов и бурят во главе отряда енисейских служилых людей численностью 30 человек. В качестве помощника ему был придан десятник Семен Родюков 20.
В «росписи посылок служилых людей» Енисейского острога на лето 1631 г. сказано, что в 138 г. (т. е. до 1 сентября 1630 г. – А. Б.) «с атаманом с Максимом Перфирье-вым да з десятником с Семейкой Родюко-вым» отправлено тридцать человек служилых людей «в Брацкую землю умирить брацких людей» и «для укрепленья и шато- сти острогу ставить» и ко времени составления этой росписи в Енисейский острог еще не вернулись [Миллер, 2000. С. 441– 442. № 288] 21. Таким образом, построенный для зимовки отряда воеводы Я. Хрипунова (или П. Бекетовым по указанию воеводы В. Аргамакова) в устье Илима острожек не решал задач, которые виделись новому главе енисейской администрации князю Семену Шаховскому, и, по его мнению, требовалось поставить новый острожек выше по течению Ангары непосредственно в бурятской земле, что и было поручено М. Пер-фирьеву. Что касается построенного ранее М. Перфирьевым острожка под Шаманским порогом, судя по всему, именно он и был к тому времени сожжен бурятами.
Так как вопрос с замирением бурят необходимо было решить, с М. Перфирьевым отправили из Енисейского острога трех братских ясырей – «робят» (подростков). Кроме того, цель этого похода – отодвинуть границу русских владений дальше на юг, что обеспечило бы большую безопасность недавно открытому Ленскому волоку. Поэтому енисейский воевода велел участникам очередного похода поставить под Братским порогом еще один острог, хорошо его укрепить и только после этого отправить к бурятам верных тунгусов, живущих поблизости от бурят и «государю которые прямят», чтобы звали бурятских князцов в этот острог. Когда князцы и «лутчие люди» приедут в острожек, Максиму велено взять их в аманаты, а захваченных ранее красноярцами в плен их детей отпустить. Приглашенных требовалось привести к присяге на верность государю – взять «шерть». Что касается убийц Вихоря Савина, то вместо карательного похода было решено потребовать, чтобы буряты «сами меж себя их нашли» и привели в новый острог к Максиму и Семену 22.
25 октября 1630 г. в Енисейском остроге была получена отписка из-под Братского порога из Илимского острожка, «где стоял наперед сего Я. Хрипунов». М. Перфирьев и С. Родюков писали, что ходили они в легких стругах из-под Братского (Илимского) острогу к бурятам до устья р. Геи (которая вскоре стала называться Вихоревкой. – А. Б.) 23. Не доходя до бурят, послали к ним ясачного тунгуса Халнику, чтобы позвать их в новый острожек. Что это за новый острожек, не известно. По нашему мнению, М. Перфирь-ев мог его построить вновь под Шаманским порогом или выше, где годом ранее был «кош» Хрипунова, для зимовки своего отряда. Да и очевидно, что зазывать бурят в острожек на устье Илима было делом сомнительным по причине его отдаленности.
Князцы Кодогун и Кодогур, которые и ранее платили ясак, приехали по первому зову. В качестве ясака дали 15 соболей, но в большом ясаке «били челом» (отложить сбор. – А. Б. ) до весны, объясняя отсутствие пушнины набегом красноярцев: люди они грабленые, в прошлом году не промышляли, опасаясь набегов со стороны русских, – «жили в побегах блюдяся от служилых людей досталново раззоренья. А ныне зимою учнут они братцкие люди государевым ясаком промышлять и весною ясак дадут сполна». Бурятские князцы просили предводителей отряда отдать им пленных. М. Пер-фирьев решил не рисковать, но для демонстрации своих честных намерений передал князцам одного заложника из русских людей. Он, как сказано в источнике, «для веры отдал им одново парня Ивашка Грошева сына для веры и для приучки», а сына и дочь князцов вновь оставил у себя. Говорил Максим с бурятами и о розыске убийц Ви-хоря Савина. На что князец Кодогон сказал, что князец Баракан сейчас недоступен – откочевал из своих жилищ «на степь от их далече», «для того, что блюдетца де на себя от служилых людей приходу». А убил Вихоря брат Бараканов, который «напился пьян» 24.
Начав устанавливать с бурятскими княз-цами мирные отношения, М. Перфирьев сообщил об этом в Енисейск, добавив, что весной, как только реки освободятся ото льда, они пойдут поближе к братским улусам и поставят еще один острог 25, как предписывалось в наказной памяти, и возьмут аманатов. Однако атаман отнюдь не почивал на лаврах, понимая, что проблемы во взаи- моотношениях с местным населением достаточно серьезны и для окончательного закрепления в этом районе требуется больше людей, чем посылалось до сих пор. Учитывал М. Перфирьев и проблему удаленности от уездного центра, которая диктовала необходимость периодической отправки туда людей из планируемого острожка, что вело к сокращению численности отряда: «У них убудет в отсылку в Енисейской острог… с ясашною казною и с отписками шесть человек». Атаман также просил весной по первой воде прислать к ним замену и запасы, «чтобы де им сидеть в острожке от брацких людей было бесстрашно, и голодною смер-тию не помереть» 26.
Как следует из источников последующего времени, М. Перфирьев, посланный в Братскую землю для уговору бурят после «войны» Я. Хрипунова и красноярцев и «острожной ставки», выполнил все, что было поручено ему воеводой Шаховским: «уговорил» бурятских князцов Кодогоня, Кодогора, Баратая, Уныгевея, взял с них ясак 183 соболя и острог поставил в «крепком и угожем» месте. Даже князца Маярахана, который убил Вихоря Савина, «уговорил» вернуться в ясачный платеж. С тунгусов за время пребывания у устья Илима он взял 127 соболей 27. Дождавшись прибытия в новый, построенный им под порогом Падуном, Братский острожек смены – отряда В. Мо-сквитина, М. Перфирьев вернулся в Енисейский острог 18 июня 1631 г. 28 Именно его действия на Средней Ангаре определенным образом стабилизировали обстановку: взаимоотношения с тунгусами и окинскими бурятами уже не носили столь конфронтационного характера, что позволило енисейской администрации и служилым людям заняться освоением территорий по Лене.
Таким образом, М. Перфирьев выполнил задачу, поставленную перед ним енисейским воеводой. Позднее князь С. Шаховской, описывая службы атамана, сообщил в Москву, что тот «острог в Брацкой земле (Перфирьев. – А. Б.) поставил в крепком и угожем месте и укрепил всякими крепость-ми» 29. И, следовательно, очередной Братский острог у порога Падуна, который стал на долгие годы крайней точкой русских владений на Ангаре, мог быть построен отрядом М. Перфирьева весной 1631 г., скорее всего в первой половине мая.
Позднее, когда в 1642 г. в Москве было принято решение о поверстании М. Пер-фирьева в стрелецкие сотники, в полученной енисейским воеводой Осипом Оничко-вым грамоте среди заслуг Перфирьева упоминается и строительство Братского острожка. Причем только одного, и без указания года его основания 30. По всей видимости, после строительства М. Перфирье-вым острожка под порогом Падуном необходимость в существовании других острожков отпала, и они либо были оставлены вообще, либо продолжали использоваться только как временные прибежища ясачных сборщиков. Местом пребывания енисейских годовальщиков на Ангаре выше устья Илима остался только Братский острожек, построенный М. Перфирьевым в 1631 г.
В дальнейшем был построен еще один Братский острожек: в 1645 г. посланный на Байкал енисейский сын боярский Иван По-хабов «поставил острожек повыше Братского острожку на Оке реке», где зимовал со своим отрядом. Однако упоминание этого острожка в документации последующих лет нам не встретилось. Судя по всему, как и другие, это было временное прибежище отряда, оборудовавшего для себя место зимовки. Но показательно, что в том году окинские буряты заплатили ясак в гораздо большем размере, чем ранее 31.
Таким образом, на наш взгляд, можно констатировать, что появление укрепленных пунктов на отдаленных территориях Енисейского уезда с находившимся в них пусть небольшим, но постоянным контингентом служилых людей, действительно стабилизировало ситуацию во взаимоотношениях с аборигенным населением и обеспечивало увеличение поступления ясачной пушнины даже в тех волостях, которые еще долго оставались неокладными. Все приведенные в настоящей статье сведения о нескольких острожках, построенных енисейскими служилыми людьми в 1627–1631 гг. и имевших название Братских, дают возможность не только систематизировать события, связанные с историей присоединения Среднего
Приангарья к Русскому государству, но и облегчить поиск мест расположения этих острожков в случае проведения археологических раскопок.
Список литературы Братские острожки: от устья Илима до устья Оки (документальные источники о строительстве братских острожков в 1627-1631 годах)
- Васильевский Р. С., Резун Д. Я. Летопись сибирских городов. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. 305 с.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 622 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2005. Т. 3. 598 с.
- Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.). М.: Имп. об-во истории и древности российской при Моск. ун-те, 1900. Ч. 3. 393 с.
- Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII-XVIII вв.). Л.: ОГИЗ, 1937. 428 с.