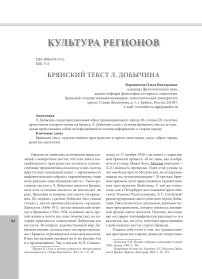Брянский текст Л. Добычина
Автор: Вороничева Ольга Викторовна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Культура регионов
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Л. Добычин создал оригинальный образ провинциального города 20-х годов ХХ столетия, прототипом которого является Брянск. Л. Добычин стоял у истоков брянского текста; его рассказы представляют собой интереснейший источник информации о старом городе.
Брянский текст, художественное пространство и время, оппозиция, локус, образ города, религия, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/170174112
IDR: 170174112 | УДК: 908(470+571)
Текст обзорной статьи Брянский текст Л. Добычина
Одними из значимых источников представлений о конкретных местах того или иного географического пространства являются художественные произведения, поскольку в них «всегда присутствует локальный аспект — привязанность мифопоэтического образа к определённому, чаще всего реально существующему месту»1. Таким реальным местом у Л. Добычина является Брянск, хотя этот астионим писатель не использует ни разу. Приведём основания для такого утверждения. Во-первых, судьбой Добычин был связан только с двумя провинциальными городами: Двинском (1896–1911: детско-юношеский период) и Брянском (1918–1934: основная часть зрелой жизни и почти все годы творчества), на который приходится становление Добычина как писателя. Во-вторых, художественный мир До-бычина вполне соответствует его представлениям о Брянске, отразившимся в письмах писателя. В них мы находим указания на те же реалии, что и в произведениях. Так, в письме М. Л. Слоним- скому от 17 ноября 1930 г. он пишет о характерной брянской примете: «Я не знаю, как изобразить эту улицу. Может быть, Москвы (выделено — Л.Д.) написать прописью. Идея этой улицы та, что она была просто Московская, но её переименовали по случаю революции»2. В-третьих, брянские приметы густо представлены в художественном пространстве Добычина. С той же точностью, как в Петербурге восстановлен ареал обитания Родиона Раскольникова, Э. С. Голубевой3 реконструировано место действия героев Добы-чина. Оно соотносится с реальным, довольно тесным пространством, которое являлось жизненной средой самого писателя. Поэтому, воссоздавая «историко-топографическую реальность» его рассказов, мы, по сути, получаем представление о добычинских местах старого Брянска.
Отдавая себе отчёт в том, что художественное пространство и время далеко не тождествен- ны реальному, мы, тем не менее, рассматриваем рассказы Добычина как бесценное свидетельство о духовной атмосфере, интересах, стиле жизни Брянска 20-х гг. ХХ в. Поэтому считаем правомерным реконструировать брянский текст на основе его произведений. Актуальность исследования повышается в связи с тем, что писатель стоял у истоков брянского текста, внёс наибольший вклад в его формирование и стимулировал интерес к Брянску со стороны художественной интеллигенции. Его произведения представляют собой информационно-ёмкую систему, аккумулирующую культурные смыслы и одновременно выступающую в качестве смыслопорождающих элементов.
Добычинский город имеет вполне стандартный набор признаков классического провинциального захолустья и составляет устойчивую оппозицию городу-празднику, городу-мечте Пе-тербургу4. О монотонной и губительной скуке русской глубинки писали Н. В. Гоголь, С. Т. Аксаков, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. П. Чехов, Ф. К. Сологуб и др., изображая её «как череду подчёркнуто безымянных мест (город N). Это не просто скучно однообразная, погрязшая в обывательщине, пошлости и мещанстве отсталая провинция в духе Бальзака. Это средоточие непостижимо таинственного культурного и духовного вакуума. <…> В литературе провинциальность стала неким атрибутом, метафизическим знаком, хотя и имеющим обозримые географические очертания» 5. Добычин так же акцентирует внимание на бессобытийности городской жизни: «Часто пили друг у друга чай…»6; «Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки. Тикали часы. Били. Тикали. Собака за окном лаяла по-зимнему»7. К слову сказать, брянская реальность подобным образом оценивается Добычиным в письмах. Например, в письме И. И. Слонимской от 13 августа 1930 г.: «Вы писали, что у нас всегда что-то случается,— а только и случается, что дождь то перестанет идти, то опять пойдёт»8. В том же ключе отзывается о Брянске В. В. Розанов, живший в пределах «добычинского квадрата» на три десятилетия раньше, с 1882 по 1887 гг.: «Город ужасающе беден и столь же ленив. <…> Жители же играли в карты… <…> Женщины постоянно пили чай… А в гости они постоянно ходили друг к другу… <…> Вообще же городок жил не склеившейся, рассыпчатой жизнью. Жил лениво, праздно»9.
Своеобразие в изображении Добычиным провинциального городка проявляется в отражении главной тенденции постреволюционного времени — конфликта старого и нового и кардинальной переоценке прежней размеренной жизни в контексте современных автору социальных потрясений и трансформаций.
«Тяжёлая жизнь», покосившиеся дома и «дырявые подмётки» — это всего лишь внешние проявления духовного кризиса человека и общества. Разрушение физического мира осмысливается автором в духе булгаковского профессора: «...если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха»17. Официальная жизнь города предстаёт у Добычина как бесконечная череда демонстраций по самым различным поводам: «Да здравствует коммунистическая партия»; «Долой Румынию». «Трубя, маршировали» и пели «Вы жертвою пали» на похоронах «исключённой за неустойчивость самоубийцы Семкиной». К Пасхе приурочено дьявольское шествие («Керзон болтался на виселице») с длинными огнями на факелах, их отсветами на медных трубах и лицах «маршировщиков»18.
Распространителем революционных идей в городе является штрафной батальон: «Штрафные пели Интернационал»; «Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками на насыпанной вдоль батальона песочной полоске: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”». Мельчайшей деталью писатель развенчивает и революционные лозунги: «Трудящиеся всех стран,— мечтательно говорил Кукину кассир со стан-ции,—ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?»19,—ишумное социалистическое строительство: «Торчали обломки деревьев, посаженных в “День леса”»20. Глубоко символичен выбор ключевых пространственных образов в сцене торжественного открытия памятника революционному деятелю, который приблизился «к разрешению стоявших перед партией задач»: «Сзади было кладбище, справа —исправдом, впереди казарма». Всё это даётся на контрастном фоне заречных просторов: «За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — ближнюю и дальнюю»,— и мыслей о свободе: «Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актёром или лётчиком»21. Как часть открытого природного ландшафта осознаются образы станции за рекой, железнодорожной ветки, паровозов, паровозного дыма, ассоциирующиеся с движением, духовной свободой и новой жизнью.
Природные образы, проникая в пространство города, составляют устойчивую оппозицию образам-символам идеологической пропаганды, соответствуют вечным ценностям и коррелируются с индивидуальным пространством и временем героев: «Потом взошла луна и души смягчи-лись»22. Образ реки с кипящим в воде следом от парохода и набегающими волнами: «Река была как море»23,—в рассказе «Отец» рождает ассоциации с полнотой и радостью бытия. Однако он получает неожиданное обрамление: дорога к реке начинается (завязка) и заканчивается (развязка) посещением кладбища, через которое лежит путь отца с малолетними сыновьями,—здесь похоронена мать. Кольцевая композиция даёт понимание глубины внутренней трагедии персонажа, преодолеть которую ему помогает жажда жизни и любви. Менее чем на полутора страницах автор дважды высвечивает характерную деталь— разбитые стёкла церкви — отголоски революционного атеизма докатились и до кладбищенской ограды. Идея «любви к отеческим гробам» сменилась маниакальным стремлением к уничтожению привычных форм жизни: «Рождество наступило. Колокола были сняты и не гудели за окнами. “Пи”,— басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик», «Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну»24. Беспощадное искоренение религиозных объектов и символов свидетельствует о сужении в городском пространстве области сакрального, элементы которого концентрируются в домашнем топосе: «Перед киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай»25. Домашний уют располагает к разговору о вечном: «Дома — пили чай. Сидела гостья. “Наукадоказала,—хвастался Павлушенька,—что бога нет”. “Допустим,— возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо.—Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?”»26. Подобные беседы происходят именно за чаепитием, выступающим атрибутом домашнего тепла и душевной гармонии.
Устами своей героини, Козловой, писатель выносит приговор этому миру. Если действия «гонителей» вызывают у неё негативную реакцию, но не лишают надежды: «Господи, когда избавимся?..», то поведение епископа, опрокинувшего ведро помоев «под столб с преображением», рождает мысли о конце света: «“Недолго мучиться”,— радостно думала Козлова, смотря ему вслед»27. Авторская позиция проявляется в введении аллюзий и реминисценций, отсылающих читателя к дохристианской истории: языческое поклонение идолам, захоронение тов. Гусева за стенами храма на шумном перекрёстке; через ручей «брошенные вместо мостика конские кости»28; антенны над домами, напоминающие «“колья для насаживания черепов” из книжки с путешествия-ми»29, неоднократное упоминание иконы и мощей Святого Кукши — первого христианского проповедника, убитого на территории Брянска.
В этом отношении весьма примечательна эволюция образа Новопокровского собора (центрального городского собора Брянска, в здании которого с ноября 1924 г. разместился Народный дом (клуб) имени 25 октября). Лишь в рассказе «Козлова» собор предстаёт действующим: «Сорок восемь советских служащих пели на клиросе». Этой гениальной по своей простоте, краткости и смысловой ёмкости фразой характеризуется Советская власть, церковь и трагедия людей, живущих на изломе времени. Интересны измене- ния в восприятии Новопокровского собора персонажами: 9 сентября 1923 г. после встречи иконы святого Кукши, которую принесли из собора, герои «возвращались взволнованные»30. В «Еры-гине», написанном в 1924 г., мать главного героя, выбравшаяся в клуб «Октябрь» на ноябрьские праздники, «возвращаясь, плевалась». Её оценка происходящего вполне соответствует позиции автора, неслучайно акцентирующего внимание на одиноко блестящем «золотом шарике на зелёном куполе клуба “Октябрь”»31, с которого в 1927 г. был убран купол. Глубоко символичный образ Новопокровского собора, позволяющий проследить отрицательную динамику пространства и времени, выступает в качестве структурообразующего элемента художественного мира Добычина.
Приметы нового и старого органично сочетает в себе амбивалентный образ Покровской Горы — исторического центра Брянска. Одно и то же место реального локуса наделяется совершенно противоположными чертами в контексте характеристики уходящей России: «В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами»32; «В воде была гора с садами и церквами, расплывчатая, словно вышитая шерстью по канве»33 — и России новой: «Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя»34. Двукратное использование образа отражённой в воде Покровской горы, воплощающей глубинную суть древнего города с обилием храмов и святых мест, свидетельствует о значимости для писателя истинной веры. Его смысловая ёмкость детерминирована, во-первых, ассоциациями с Китеж-градом; во-вторых, традиционным пониманием символики воды — очищающей силы, освобождающей от греха, грязи, безбожия. Атрибуты абсолютного (сад, церкви) представляют собой не всегда чётко осознаваемый («расплывчатый»), но необходимый культурный фон, обеспечивающий сохранение и воспроизведение духовных ценностей. Зыбкий, исчезающий и одновременно навечно запечатлённый образ древнего города противостоит хаосу и духовной дезориентации постреволюционного времени. Сохранение в мудрой и вечной природе памяти о старом русском городе с обилием храмов и истиной верой внушает надежду на духовное пробуждение.
Советская власть, утверждавшая безбожие и стремившаяся к унификации городов, многое разрушила в Брянске. Потери последнего пятилетия не менее трагичны, поскольку знаменуют целенаправленное уничтожение примет старого Брянска и свидетельствуют о не менее масштабных, чем в добычинские времена, разрушениях. Если провести аналогии между современной и отражённой в рассказах писателя динамикой культурного ландшафта, то становится очевидной наметившаяся сегодня гораздо более серьёзная девальвация ценностей. Оппозиция старое — новое наполнилась принципиально новым содержанием. Под старым теперь понимаются не религиозные, а культурно-исторические (в том числе истинной веры) ценности, а под новым — не идеологическая пропаганда, а культивирование потребительского сознания и потребностей. Так, полуразваленные исторические здания, имеющие статус охраняемых государством объектов, в центре Брянска придают городу черты пустого, лишённого всяких смыслов, а потому непригодного для полноценной жизни пространства. Эти признаки духовного вырождения отчётливей проявляются на фоне гигантского расширения торгово-развлекательных площадей. Из-за реки (со стороны Фокинского района) Брянск видится уже не отражённым в речной глади, а поглощённым гигантской пастью невиданного чудища с клыками-высотками, хаотично торчащими по всей площади некогда цельного и компактного пространства.
Символично, что старый город исчез так же обыденно и незаметно, как буднично просто навсегда ушёл из жизни сам писатель. Невосполнима утрата исторического центра, в том числе дома Добычина — его последнего прибежища в Брянске. В 1982 г. по решению Брянского горсовета народных депутатов он был снесён вместе со всем комплексом усадебных построек. К слову сказать, это был старинный купеческий особняк Добычиных, впервые упоминаемый в архивах в 1897 г. и переживший немецкую оккупацию в 1941–1943 гг. Сегодня на его месте — пустырь, огороженный забором. Он-то и стал местом паломничества одного из представителей современной минималистической прозы — Дмитрия Данилова. Каждый месяц на протяжении года он приезжал сюда, а затем поделился своими впе- чатлениями в романе «Описание города»35, в котором он «читателя приводит к тому, что Добы-чиным в Брянске пропитано буквально всё. Как Брянском — практически всё творчество Добы-чина»36.
Роман Дмитрия Данилова «Описание города» подтвердил факт того, что добычинский образ Брянска влияет на восприятие города его жителями и гостями. Это влияние детерминировано отразившейся в культурном ландшафте «информацией о фактах биографии Гения, его привычках и т.д.», а главное — преобразованием «Города-глазами-Гения в Город-в-произведе-нии»37. Добычин подчёркивал, что он небрянский , но за 16 лет жизни в Брянске сумел постичь его душу, трагедию утраты им самобытности и превращения в унифицированный советский город. «Чтобы до конца понять “Преступление и наказание”, необходимо своими глазами увидеть Садовую, Екатерининский канал и переулки вокруг Сенной площади»38. Чтобы понять Добычина, нужно побывать в Брянске. Чтобы понять старый Брянск, нужно читать Добычина.
Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, почти вся творческая жизнь писателя связана с Брянском (а не его окрестностями); здесь корни его рода, уходящего в семнадцатый век. Его произведения представляют собой полноценный и крайне редкий, если не единственный, художественный источник знаний о старом городе. Творчество Добычина явилось своеобразной точкой отсчёта, обозначившей начало пристального интереса к Брянску российских писателей и искусствоведов, продолжающих и обогащающих брянский текст. С другой, — в культурном ландшафте современного города не существует ни одного напоминания о Добычине: ни мемориального места, ни пространственного объекта, связанного с его именем. Очевиден диссонанс между значимостью вклада писателя в создание брянского текста и пренебрежением памятью о нём в прославленном им локусе. Между тем, по мысли Н. А. Голубева, обоснование уникальности территории средствами культурной и литературной идентификации является наиболее эффективным средством «скрепления» человека с местом39.
Итак, образу типичного провинциального города Добычин придал исключительно самобытные черты, позволяющие безошибочно узнать в нём реально существующий прототип.
В качестве доминантных точек художественного пространства, определяющих смысловую и структурную целостность текста города, писателем осмыслены образы Новопокровского собора, железной дороги, реки и штрафного батальона. Реконструировав исключительно самобытную, объёмную и динамичную картину жизни Брянска во всех её проявлениях, Добычин способствовал насыщению территории новыми смыслами, создающими условия для полноценной жизни человека.
Список литературы Брянский текст Л. Добычина
- Булгаков М. А. Собачье сердце // Булгаков М. А. Собрание сочинений. В 10 тт. М.: Голос, 1995. Т. 3. С. 72.
- Вороничева О. В. Образ города в творчестве Л. Добычина // Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам в вузах: материалы III международной научно-практической конференции (5 ноября 2015 г., Брянск). Брянск: БГИТУ, 2015. С. 25-34.
- Голубев Н.А Формирование локального текста: ивановский опыт: дис. ... канд. филологических наук: 10.01.01. Иваново, 2014. 241 с.
- Голубева Э. С. Писатель Добычин и Брянск. Брянск: Автограф, 2005. 130 с.
- Данилов Д. А. Описание города: роман // Новый мир. 2012. № 6. С. 3-76.
- Добычин Л. И. Полное собрание сочинений и писем. СПб.: Звезда, 1999. 544 с.
- Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю. Гений места и город: варианты взаимодействия // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 62-87.
- Лаунсбери Э. «Мировая литература» и Россия / перевод с английского О. Наумовой // Вопросы литературы. 2014. № 5. С. 9-24. Ссылка на электронную версию: http://magazines.russ.ru/voplit/ 2014/5/1l.html (дата обращения: 07.12.2015).
- Лебедев С. В. Портрет художника в топосе (Брянская «одиссея» Л. Добычина глазами Д. Данилова) // Новый мир. 2014. № 11. С. 166-176.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб., 2000. 704 с.
- Розанов В. В. Богоспасаемый городок // Розанов В. В. Собрание сочинений. В 27 тт. Т. 27. Юда-изм. Статьи и очерки 1898-1901 гг. М.: Республика; СПб.: Росток, 2009. С. 645-649.
- Щукин В. Г. Как и почему рождается литературный локальный текст // Парк Белинского. 2012. № 1. С. 30-46.