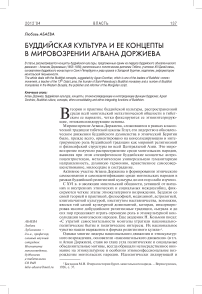Буддийская культура и ее концепты в мировозрении Агвана Доржиева
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются концепты буддийской культуры, предложенные одним из лидеров буддийского обновленческого движения - Агваном Доржиевым (1853-1938), религиозным и политическим деятелем Тибета, учителем XIII Далай-ламы, основателем буддийского монастыря в Санкт-Петербурге и ряда храмов в Западной Бурятии, издателем, реформатором монгольской письменности.
Агван доржиев, буддийская культура, концепты, этноконсолидирующие и интегрирующие функции буддизма
Короткий адрес: https://sciup.org/170166324
IDR: 170166324
Текст научной статьи Буддийская культура и ее концепты в мировозрении Агвана Доржиева
В теории и практике буддийской культуры, распространенной среди всей монгольской метаэтнической общности в тибетском ее варианте, четко фиксируются ее этноинтегрирующие, этноконсолидирующие основы.
Мировоззрение Агвана Доржиева, сложившееся в рамках классической традиции тибетской школы Гелуг, его лидерство в обновленческом движении буддийского духовенства в этнической Бурятии было, прежде всего, ориентировано на консолидирующую и интегрирующую роль буддийской традиции как мировой религиозной и философской структуры во всей Центральной Азии. Это мировоззрение получило распространение среди монгольских народов, выявляя при этом специфические буддийские концепты: антро-поцентристскую, метаэтническую универсальную гуманитарную направленность, духовную гармонию, нравственное самосовершенствование, милосердие и сострадание.
Активное участие Агвана Доржиева в формировании этнического самосознания и самоидентификации среди монгольских народов в рамках буддийской религиозной культуры до сих пор слабо изучено.
С XVI в. в эволюции монгольской общности, уставшей от внешних и внутренних этнических и социальных междоусобиц, фиксируются четкие этапы этнокультурного возрождения. Буддизм со своей теорией и практикой, философией, медициной, астрологией, книгопечатной культурой, институтом наставничества, возможно, явился той самой культурной доминантой, которая, инкорпорировав многие добуддийские религиозные традиции, сыграла и до сих пор продолжает играть огромную роль в этнокультурной консолидации монгольских народов. Еще академик Н. Козьмин писал: «С утратой самостоятельности монголы утратили национальнополитическое бытие и политические интересы. Их национальное чувство нашло выражение в формах религиозного культа»1.
Однако многие лидеры национального движения и этнокультурного возрождения, основатели «панмонгольского движения» (в т.ч. и Агван Доржиев), ставя во главу угла политические и социальные объединительные мотивы, всегда обращали непосредственное внимание на этнокультурное и особенно этноконфессиональное возрождение монгольских народов. Идеологически лидирующей и интегрирующей силой они признавали буддийскую культуру. При этом они понимали, что буддийский канон, написанный изначально в основном на пали и санскрите, позже переведенный на тибетский язык и старомонгольскую письменность, для большинства представителей монгольской метаэтнической общности был все же в какой-то степени инновационной религиозной системой, которую предстояло адаптировать к традиционному кочевому сообществу (в т.ч. и бурятскому). Поэтому некоторые национальные лидеры Бурятии в контексте национального движения считали, что богослужение должно происходить на современных монгольских языках, доступных массовым адептам.
Каждая культура со своими пространственно-временными параметрами тесно связана со своим творцом-этносом, этноконфессиональной общностью. Религия, выступающая в качестве доминирующего элемента всякой культуры, является ведущим фактором в определении своеобразия культур и основной регулятивной силой в развитии этнических культур. Особый интерес представляет проблема соотношения теории и практики религиозной культуры кочевой цивилизации, пути эволюции религиозных воззрений, а также роль биологически унаследованных и культурно-исторических параметров в восприятии и адаптации инновационных религиозных канонов, впоследствии становящихся органичными и естественными в системе традиционных ценностей кочевых этносов.
Религия является наиболее устойчивым компонентом в этнокультурной истории народов Центральной Азии. Она имеет свои закономерности развития и традиционные стереотипы, которые можно обозначить как системы религиозной культуры. Под религиозной культурой мы подразумеваем определенные исторически сложившиеся религиозные институты, сформированные центральноазиатской этнокультурной средой и функционирующие в качестве норм, идеалов, стереотипов мышления и поведения, ценностноориентационных структур, передаваемых из поколения в поколение.
При этом уровень развития каждой конкретной этнокультурной общности центральноазиатского региона, несомненно, фиксирует изменение тех методов и способов регуляции религиозной системы, которые на данном этапе являлись бы органичными в ценностном ядре данной культуры. Историческое взаимодействие многочисленных этнических субстратов (тюрки, маньчжуры, тибетцы, монголы) и их культурных традиций способствовало не только обогащению и синтезу, но и эволюции от низших форм к более высоким, а значит и развитию, совершенствованию всей религиозной системы народов Центральной Азии. Преемственность наиболее общих парадигм религиозной культуры этого региона и их историческая устойчивость диалектически сочетались с процессами ее поступательного развития. Опыт предыдущих стадий, все достижения этого периода не отбрасывались, а сохранялись и синтезировались в целостную систему религиозного сознания и поведения. Одной из высших стадий эволюционного развития религиозной культуры этого региона, несомненно, является система религиозных традиций, сложившаяся в результате синтеза тибетского буддизма и традиционных верований и культов, обрядов и обычаев тибетского и монгольского народов Центральной Азии.
Буддизм принес этим народам не только высокий уровень религиозного сознания, но и познакомил с религиозными традициями других народов Востока – индийцев, китайцев, иранцев и др. Вместе с тем тибетизированный буддизм в его специфической центральноазиатской культурно-исторической вариации инкорпорировал и ассимилировал предшествующие формы религии, достигнув органического сплава буддийских и небуддийских элементов, что в конечном итоге привело к образованию достаточно однотипных и устойчивых форм религиозной культуры во всем регионе. В религиозной культуре народов Сибири и Центральной Азии имеют место три основных этапа: 1) архаический (дошаманский), которому соответствовали ранние формы религии – анимистические, тотемистические, магические и др.; 2) шаманистический; 3) буддийский.
Система архаических верований и культов, в основе которой лежат обожествление объектов и явлений природы, вера в возможность магического воздействия на окружающий мир, существовала в регионе Центральной Азии с незапамятных времен. В последние годы архаические мотивы и шаманистические традиции в системе религиозной культуры центральноазиатского региона реинкарнировались и существуют наряду с буддийской традицией. Отечественные и зарубежные религиоведы считают, что в условиях экономического и духовного кризиса в обществе начинают возрождаться наиболее архаические формы религиозной культуры. Шаманизм, который эволюционировал от низших форм к высшим, приобрел систематизированный характер, превратился в стройную высокоразвитую политеистическую религию, имеющую почти все компоненты религиозной системы (свою космологию, мифологию, обрядность, зачатки духовной организации). Но он так и не стал общенациональной религией монгольских народов, хотя попытки создания национальной религии на основе шаманизма и более архаических верований и культов предпринимались еще в период создания Монгольской империи. На наш взгляд, шаманизм в системе религиозной культуры народов Центральной Азии (бон – в Тибете) несет в себе некоторую ограниченность, сужен рамками родоплеменных этнических общностей, тогда как буддизм по своей природе инте-рэтничен и глубоко нравственен.
Хотя космогонические и космологические представления этносов, населяющих Центральную Азию, даже в результате проникновения буддийских знаний остались в целом традиционно-шаманистическими и занимают важное место в системе традиционного мировоззрения этих этносов, путь возрождения шаманистических традиций вряд ли прогрессивен. На первый взгляд шаманистическая культура народов Центральной Азии глубоко органична всей структуре кочевой цивилизации. Так, Земля (газар дэлхий), занимавшая срединное положение, была священной родовой территорией, одухотворенной как в целом, так и в отдельных частях. Символом Вселенной и вместе с тем маркерами родовой территории служили священные горы; расположенные кучами камни и деревья указывали на космический порядок, единство мироздания и сакральность родовой земли. Реки, озера, источники и вообще вода как своеобразная и специфическая информационная субстанция всегда занимали немаловажное место в верованиях и культах народов Центральной Азии.
Почитанием с помощью различных ритуалов и обрядов характеризуется отношение бурят к животным и птицам, в его основе – идея общности мира людей и мира животных. В целом шаманисти-ческая религиозная культура народов Центральной Азии представлена разностадиальными культами, в основе которых – единство мира и людей. Она характеризуется «неразорванностью» сознания, единством природы и человека, своеобразной полнотой и самодостаточностью бытия.
На современном этапе развития этно-конфессиональных традиций можно отметить живучесть многих традиционных верований и культов. Исследования показывают, что коллективные ритуалы молебствия, такие как «обо тахилга», практикуются чаще всего из-за фактора определенной зависимости этносов от потребности сакрализовать свою этническую территорию, при этом не исключается также традиционный стереотип религиозного поведения1.
Буддизм в Центральной Азии, благодаря специфической трактовке человека и его места в мире, пользуется устойчивой репутацией самой гуманной религии в истории человечества, т.к. провозглашает принципы моральной ответственности человека за свои деяния и сострадательное отношение к любому живому существу. Распространение буддийской доктрины и практическое ее применение не замыкались в узких рамках буддийского духовенства и образованных мирских последователей. В Центральной Азии буддийская идеология пронизывала все стороны политической и культурной жизни общества, бытовой уклад народов, являясь цементирующим элементом, универсальным языком, придающим культуре этого региона некую целостность. Традиционная религиозная культура народов Центральной Азии (бон, шаманизм) была синтезирована и тактично ассимилирована буддийским культурно-религиозным комплексом.
Религиозно-философская культура буддизма, имеющая общечеловеческое значение и ценности, актуальна и в новейшее время. Именно эти позиции отмечал Агван Доржиев в конце ХIХ – начале ХХ вв.