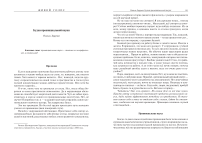Будни провинциальной науки
Автор: Харунов Рамиль Шатмуратович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Живой голос
Статья в выпуске: 4, 2007 года.
Бесплатный доступ
Провинциальная наука - явление не географическое, а социальное!
Короткий адрес: https://sciup.org/14912009
IDR: 14912009
Текст статьи Будни провинциальной науки
Если в ожидании окончания бесконечного рабочего дня вы тупо уставитесь в какую-нибудь щель на стене, то, наверное, вас посетят глюки. Хотя может и таракан вылезти... Нет, пожалуй, надо по-другому: сосредоточиться на одной точке в пространстве и тогда путем полной концентрации можно добиться просветления. Или хотя бы научного озарения...
О-о-оп, опять чуть не грохнулся со стула. Нет, после обеда бороться со сном практически невозможно. Да и окружающая обстановка не способствует энергичной деятельности. Чуть не забыл представиться, я мэнээс одного из провинциальных институтов. Нет, не звучит! Попробуем так: я — младший научный сотрудник одного регионального научного центра. Так корректнее будет.
Это все прелюдия. Но без неё трудно проследить путь молодого ученого из провинции (ваш покорный слуга).
Начнём с окружающей обстановки. Представьте себе сектор че-гототамведения'. размашисто забелённые стены, покрытые местами сажей и паутиной; рассохшаяся мебель эпохи развитого социализма;
Рамиль Шатмуратович Харунов, заведующий аспирантурой Тывинского государственного университета, Кызыл, участник школы молодого автора в 2002 году.
портрет скорбного старца (кажется филолога), с укором взирающего на сей научный приют.
Ну не надо на меня так смотреть! Я диссертацию пишу... иногда (по настроению), книги вот читаю... Ишь какой, всё смотрит да смотрит! Сейчас вообще перевешу портрет куда-нибудь подальше. Из-за него, между прочим, я однажды вместе со столом грохнулся, когда делали перестановку.
Что это со мной? Опять с портретом разговариваю. Так, пожалуй, можно достигнуть и полного просветления — когда крыша тихо едет... Начну-ка я по порядку, с трудовых будней.
Каждый раз прихожу на работу ближе к девяти часам. Иногда к десяти. В принципе, это мало кого волнует. У сотрудников с учёной степенью три присутственных дня. То есть три дня в неделю, когда их теоретически можно встретить. Но обычно наши траектории редко пересекаются... Придя на работу, можно выпить чаю и обсудить насущные проблемы. Если, конечно, заведующий сектором чегототам-ведения сегодня присутствует. Вообще удивительно! О том, что рабочий день начинается с восьми утра, я узнал только спустя полгода, как устроился на работу. А до этого меня всё мучил вопрос: почему наш служебный автобус ездит к восьми, ведь это очень рано и неудобно?!
Пора, наверное, сесть за диссертацию. Нет, муза меня не посетила, но писать-то всё равно надо. Пожалуй, «региональный научный центр» — самое идеальное место для работы над диссертацией. Нет докучливых посетителей, гости редки, ничто не отвлекает взора. Поначалу и компьютер не отвлекал — не было. Сиди себе, твори, выдумывай, пробуй! Благо, бумага-то и ручка были и есть. Всё как в старину...
Читатель! Это эссе-гротеск. На самом деле не всё так плохо. Просто автор сознательно выпячивает проблемы региональной науки, дабы найти эффективную методику их преодоления. Я описываю самого себя и вовсе не отделяю себя с неким, будто бы столичным, снобизмом от научной провинции. Провинции местами скучной и беспощадной...
Провинциальная наука
Когда-то даже самая отдалённая провинция была тесно связана с суровыми академическими учреждениями, строго взиравшими за качеством научно-исследовательской продукции на местах. Немногочисленные жёстко редактируемые журналы не брали на публикацию заведомо слабые работы, тем более с многочисленными грамматическими ошибками. Редкие диссертационные советы мурыжили бедных аспирантов ещё на дальних подступах к защите, просеивая их творения через мелкое сито и отбраковывая откровенный плагиат. Кандидатов было мало, доктора вообще были небожителями, занесёнными, как редкий вид, в Красную книгу.
Это был чёткий механизм, где каждая шестерёнка играла свою роль. У провинциальной науки была большая задача — служить плодородной почвой, на которой должны проклёвываться таланты, далее изымавшиеся заботливыми селекционерами из «большой» науки, которая собственно и выполняла (будем надеяться — и выполняет) свою главную социальную функцию — функцию выработки нового знания.
Было у провинции и своё преимущество: на её собственном уровне — без давления столичных авторитетов, в сообществе, не обременённом цепями сложившихся научных школ, — могло расцветать свободное критическое мышление, служившее необходимой предпосылкой для открытия принципиально нового. Таким образом происходила научная социализации для талантов из провинции, которые в дальнейшем рекрутировались для нужд «военки» или фундаментальной науки. Благодаря чему мы и были впереди планеты всей — во всяком случае, наряду с балетом и цирком, в области космоса.
Для более ясного сравнения сопоставлю этот процесс с футбольной селекцией. Там всё начинается с дворовых команд, далее — второй дивизион, потом — первый и, наконец, — высшая лига и сборная страны. Без дворового футбола не будет и кандидатов в сборную. А теперь представим себе другую картину, когда второй дивизион замыкается в себе и создает иллюзию профессионального футбола. Вот и громит какой-нибудь «Монтажник» на своем поле «Сантехника», трибуны рукоплещут, игроков носят на руках... Чем не слава? Тем более и денег на жизнь хватает. А в большом спорте выкладываться надо, здоровье тратить!
В наше время нечто подобное как раз и случилось с провинциальной наукой. В результате кризиса финансирования 1990-х годов прервались давние связи, и научная провинция замкнулась в себе. Из-за ослабления институциональных требований бывшие педагогические институты стали университетами. При них, как грибы после дождя, выросли многочисленные диссертационные советы, которые проводят оптовые защиты своих аспирантов, публикующихся в местных же раритетных сборниках (раритетные они потому, что тиражом в 100 экземпляров — затраты минимальные, а главное, от греха подальше, дабы никто не прочитал). Учёная степень потеряла свою полновесность в результате массовой инфляции.
Сложились локальные научные сообщества со своими амбициозными основателями, выдвигающими доморощенные идеи «мировых масштабов». Формируются научные школы, не известные за пределами региона, тем более за рубежом. Таким образом, провинциальная наука теряет свою первоначальную цель и искусно имитирует деятельность «большой» науки1: работают многочисленные исследователи; подаются заявки на гранты; несётся исправный поток публикаций (увы, никем, кроме автора и двух-трёх коллег, не прочитанных); проводятся помпезные конференции, главная прелесть которых в фуршетах; исправно пишутся отчеты о проделанной научной работе, весьма внушительные по весу, но жидковатые по содержанию; есть карьерный рост (и сопутствующий ему скромный материальный достаток)... Нет только самого главного — вся эта деятельность не влияет на развитие науки в целом. Воспроизводятся все институциональные признаки науки, но почему-то не вырабатывается новое знание. Зато формируется особая наука, провинциальная — самодостаточная, массовая и самодовольная в своей ограниченности.
При этом провинциальная наука теряет глубинную связь с «большой» наукой и становится самостоятельным социальным институтом, который воспроизводит себя в молодых ученых, воспринимающих всё за чистую монету, считающих, что так всё и должно быть. Ах, эти многочисленные диссертации на страшно актуальные региональные темы! А сколько новых, очень даже востребованных специальностей на факультетах, не подкреплённых, однако, учебной литературой и профессиональными преподавателями! Провинциальная наука воспроизводит себя методом почкования, в огромных количествах выпуская и выпуская студентов, мнящих себя специалистами с дипломами, а на самом деле живущих в иллюзорном мире, порождаемом оторванностью от «большой» науки.
Данное обстоятельство открывает широкие возможности для плагиата, благо многие работы выходят слишком малым тиражом, чтобы о них знала научная общественность. Посему можно спокойно сдирать целые страницы и публиковаться в «мини-масштабных» сборниках статей. Для кандидатских диссертаций это самая распространённая практика.
... Лишь иногда, стоя на забытом полустанке, мы машем проносящимся мимо поездам «большой» науки. В них, в этих поездах, проносятся мимо нас счастливые творчеством люди, гранты, конференции, иностранные языки, зарубежные стажировки, престижные пуб- ликации, громкие открытия. Все мимо, мимо, мимо... Остаётся крикнуть в сердцах: «А не оченъ-то и надо было!!!» На самом же деле ох как надо было! Надо — да где же взять силы, чтобы преодолеть родную затягивающую рутину?!
Провинциальный университет
Типичный провинциальный университет является одним из основных элементов социальной стабильности региона — хотя бы потому, что предоставляет выход к высшему образованию людям, которые в силу материальной необеспеченности или слабого уровня образования не могут учиться за пределами региона. Ведь уровень подготовки большинства абитуриентов стандартен: многие не владеют в полной мере знаниями школьной программы почти по всем дисциплинам и практически все не приучены работать самостоятельно.
Ещё важнее другое. Ela фоне трудностей социально-экономического развития, слабости реального сектора экономики, высокой безработицы провинциальный университет не только (и даже не столько) готовит специалистов по новым профессиям, сколько решает важную социальную задачу — даёт молодежи общественно-полезное занятие и таким образом не позволяет ей пополнять ряды безработных и деклассированных. Это очень значимая социальная миссия провинциального вуза, так как в депрессивном регионе незанятая молодежь, при её большой энергии, но малом жизненном опыте, представляет собой взрывоопасную социальную массу.
Но чем это оборачивается для самого провинциального университета? А тем, что он неизбежно локализуется. То есть и студенческий, и преподавательский состав воспроизводятся из года в год примерно в неизменных социальных и профессиональных параметрах. При этом выпускники университета, как правило, не выходят за пределы региона, и редко кто из их коллег приезжает в регион извне. В итоге и образуется закрытая, замкнутая на «своих», на «свой» регион, «свою» провинцию сфера образования, живущая по законам круговой причинности: преподаватели, являющиеся в основном выпускниками локального вуза, — школьники, обучаемые так, как только и могут обучить такие преподаватели, — студенты, которым изначально не хватает базовых знаний, — изготовленная из данного «исходного материала» новая генерация преподавателей того же вуза, с теми же качествами, с теми же (если не хуже) профессиональными характеристиками. И так из года в год...
Пожалуй, главная проблема провинциального университета — это общая инертность и равнодушие к инновациям в обществе. Университетская среда от преподавателей и до студентов достаточно безразлична к любым проектам, выходящим за рамки программы и требующим бесплатной отдачи душевных и физических сил. Довлеет некая провинциальная самодостаточность, нежелание тянуться к новому, интересному, но трудному знанию.
И уж наверняка в провинциальном «универе» вы встретите восхитительное самоограничение в труде: только до пяти часов вечера — и баста, только свои функциональные обязанности — и ни грамма свыше! И вообще — кому это нужно?!
Надо быть готовым к тому, что слой активных и креативных людей достаточно узок, и, спустя несколько наборов обучения, себя исчерпывает. Жажда знаний, видимо, имеет духовную природу, которая должна регулярно подпитываться... А чем? Как?
Как преодолеть эту проблему? Надо людей заставлять. Не стоит надеяться на многочисленные завлекательные объявления о конкурсах, школах, стипендиях и т. д. Инертную массу ими не пробьёшь. Приходится ходить за каждым и заставлять, заставлять, заставлять — заставлять даже тех, кто казалось бы, безнадёжен, кто не желает ни в чём участвовать.
Утверждая это, автор статьи опирается на собственный опыт, накопленный им за трехлетний период руководства отделом аспирантуры Тывинского государственного университета. В том числе — на опыт организации и реализации трёх проектов: «Основы научной работы» для аспирантов, Школы взаимного обучения студентов (ШВОС) «Сайзырал» и (совместно с Образовательно-исследовательским и издательским центром «Вестник Евразии» и Тувинским институтом гуманитарных исследований) региональной Школы молодого автора. Не Бог весть какой опыт, но он всё же позволяет делать выводы о специфике методического обеспечения, необходимого для подъёма научной деятельности в регионах.
При подготовке вышеперечисленных проектов мы исходили из установки, что не в наших силах решить материальные проблемы высшего образования и науки — модернизировать лаборатории, оборудовать аудитории мультимедийной техникой и т. д. Но мы можем повлиять на формирование студенческой и впоследствии научной среды. В первую очередь через работу с заинтересованными аспирантами и студентами. Мы должны с помощью адаптированных методик работать с теми, кто у нас есть, и тем самым поддерживать интеллектуальную среду.
В научной провинции нет той атмосферы, когда идеи витают в воздухе. Наоборот, чаще консерватизм душит любые начинания. Поэтому изначально не стоит уповать на энтузиазм — он вытравлен в предыдущих поколениях, а надо идти долгим путем агитации, уговоров и даже административного давления. Да, да, кто не будет участвовать, тот горько пожалеет! То есть будет иметь неприятности на работе. В ту же региональную Школу молодого автора часть слушателей включили административно — через их «не хочу». И ничего, они заработали. И даже всем понравилось!
Результат придёт потом, хотя сколько будет истрёпано нервов и пролито «невидимых миру слез»! Но придёт непременно!
Злоключение:
«Ох и трудная это работа — из болота тащить бегемота!»
Провинциальное сознание замкнуто и защитно агрессивно по отношению к посторонним и к критике. Тем не менее провинциальная наука иногда и сейчас невольно выполняет свою основную задачу — задачу рекрутирования талантливых людей для «большой» науки. Правда, происходит это путем выталкивания неугодных, баламутящих местную тишь да благодать, чегототамжелающих сделать. Потом эти люди находят себя в «большой» науке, даже добиваются успеха и с жалостью смотрят на бывших коллег...
Более взрослые и статусные ученые всё понимают и просто играют по этим искусственным правилам. Но молодые исследователи — вот беда! — принимают игру за чистую монету, верят, что это и есть подлинная наука!
И как затягивает безмятежное провинциальное существование, как меньше хочется делать и думать, как хочется довольствоваться малым!
Что можно сделать? Для начала необходимо осознать и признать истинное положение вещей. А дальше выход один: надо себя заставлять. Заставлять подниматься над средним уровнем, заставлять себя работать по принципу самоотдачи, а не отбывания по службе. Несли положение позволяет — заставлять других.
Список литературы Будни провинциальной науки
- Шкурко А.В. Raison d'être провинциальной науки: функциональный анализ//Вестник ННГУ. Серия «Социальные науки», 2006