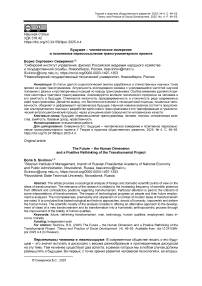Будущее — человеческое измерение и позитивное переосмысление трансгуманитарного проекта
Автор: Сивиринов Б.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье дается социологический анализ зарубежных и отечественных научных точек зрения на идеи трансгуманизма. Актуальность исследования связана с усиливающейся частотой научной полемики с разных и противоречивых позиций по поводу трансгуманизма. Особое внимание уделяется критике некоторых трактовок трансгуманизма. Анализируется влияние технического прогресса на человека и его занятость в будущем. Отмечается неполнота, преждевременность и утопичность ряда современных идей трансгуманизма. Делается вывод, что биотехнологический и техницистский подходы, лишенные человечности, обедняют и деформируют человеческое будущее. Научная новизна анализа состоит в предложении альтернативного подхода к разработке идей нового трансгуманизма и его трансформации в гуманистический антропоцентрический процесс через улучшение всей совокупности человеческих качеств.
Будущее, переосмысление трансгуманизма, человек, техника, человеческие качества, занятость, базовый доход, нравственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149148308
IDR: 149148308 | УДК: 316.42 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.4
Текст научной статьи Будущее — человеческое измерение и позитивное переосмысление трансгуманитарного проекта
1Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Новосибирск, Россия, , ,
1Siberian Institute of Management, branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russia, , ,
с позиций гуманизма, трактующих развитие человека и межчеловеческих отношений, в свою очередь, погруженных в эти технологии. При этом следует подчеркнуть, что роль человека в изменениях к будущему первична в конечном счете (так как технологии – это продукт человеческого сознания) и одновременно вторична в обратном процессе взаимодействия со всей материальной культурой. В целом человек – это центр, активный фактор, детерминирующий будущее всех структур и процессов общества. Однако техника, творимая человеком , на сегодняшний день не настолько развита, чтобы органично интегрироваться в социоприродное пространство. Большую роль здесь играет «человеческий фактор, от которого новая техника и технологии требуют нового научного мышления и развитого чувства ответственности» (Сивиринов, 2019: 194).
Нравственные характеристики человека во многом определяют характер влияния техники на общество. К. Маркс еще более ста лет назад проницательно заметил: «Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости» (Маркс, Энгельс, 1958: 4). Другими словами, через технику и часто с помощью техники «человек становится рабом других людей», т. е. техника выступает здесь не как надмирная и внечеловеческая сила, угрожающая человечеству своим развитием, а как мощный инструмент в руках конкретных групп людей, стремящихся не только манипулировать человеком, но и трансформировать его.
С развитием техники возникают комплексы социальных проблем. Автоматизация и роботизация неизбежно порождают высвобождение рабочей силы и безработицу во многих отраслях. Правда, существует аргумент в пользу появления новых рабочих мест в сфере обслуживания робототехнологий. Но в перспективе робототехнологии перейдут на самообслуживание. Таким образом, проблема занятости и безработицы больших социальных групп станет чрезвычайно актуальной. Дорис и Джон Нейсбит подтверждают проникновение автоматизации в сферу интеллектуального труда и сложных работ (Naisbitt D., Naisbitt J., 2019: 89). Но, по их мнению, автоматизация сама создает «миллионы рабочих мест» (Naisbitt D., Naisbitt J., 2019: 88). Дж. Нейсбит рассчитывает, что можно успеть «подготовить новый мир труда СЕЙЧАС» (Naisbitt D., Naisbitt J., 2019: 90), но его оптимизм недостаточно обоснован. Быстрое освобождение людей от физического труда связано не столько с заботой о людях, сколько с экономическими соображениями. Скорость, с которой в результате автоматизации исчезают массы профессий физического труда, не позволяет миллионам людей в нынешнем обществе заранее подготовиться к одновременному появлению и, самое главное, освоению новых профессий. Как следствие подобного диссонанса – появление больших масс безработных или частично безработных. Формирование сложных производственных систем на первых этапах будет связано со сбалансированной комбинацией людей, роботов, информационных технологий и ресурсов. Следующий этап вообще исключает в производстве непосредственное участие людей, когда произойдет развитие самоорганизующихся производственных роботокомплексов. Как пишет Дж. Фридман, робототехника создается для замещения рабочих мест, и когда «роботизированные технологии будут созданы на замену исчезающим работникам, они приведут к безработице среди вытесненных работников, у которых не хватит ни знаний, ни навыков, чтобы перейти на обслуживание роботов» (Фридман, 2010: 255). Возникает глобальная проблема не безработицы, а любой полезной для общества занятости. Решить эту проблему коренным образом в ближайшие десятилетия, разумеется, невозможно. Неизбежен переходный, транзитивный этап, связанный с различными типами занятости за зарплату: временная занятость, «работа без рабочего места», «работа по совместительству», работа при «разделении рабочего места» и другие «комбинированные» формы занятости (Шевчук, 2005: 18‒19). Этот этап может затянуться и на столетие, если не принимать необходимые меры по трансформации мотиваций труда и занятости в нашем обществе.
Человек, занятость, базовый доход . Процесс автоматизации и цифровизации сопровождается высвобождением рабочей силы. Поэтому в последнее время получила распространение концепция выдачи базового дохода для всех, независимо от рода занятий. Но исследования показывают, что базовый доход в современном капитализме не решает проблем безработицы. Более того, он снижает мотивацию большинства людей к труду. В Финляндии и других странах эксперимент с базовым доходом свернули, так как он не дал желаемых результатов (Павлов, 2020: 203). Действительно, воспитание и морально-нравственный уровень современного капиталистического общества не способствуют формированию сильной мотивации к труду, не связанной с денежным вознаграждением. По всему видно, что эта идея носит утопический характер.
В данном случае мы не исследуем проблему базового дохода. Но сама идея вызывает ассоциации с социалистическим обществом, где действительно высокая мотивация к труду воспитывалась всем обществом и была связана напрямую не с деньгами, а в основном со стремлением к самореализации высоконравственной личности в различных видах общественно-полезной деятельности. Только тогда, на наш взгляд, не сильно дифференцированный социально достойный базовый «доход» гипотетически может дать высокий социальный и экономический эффект.
Но заметим, что такое общество нового типа возможно только в отдаленном будущем. Сейчас же безусловный базовый доход в капиталистическом обществе невозможен в силу экономической и социальной противоречивости, связанной с эквивалентной и, следовательно, ощутимо неравной оплатой труда.
Если исходить только из экстраполяций, то прошлый исторический опыт взаимодействия человека и техники склоняется к линейным техническим прогнозам. Например, современные технологии в их динамике позволяют довольно точно предвидеть характер изменений в конструкции компьютеров, автомобилей, цифровых и информационных технологий.
Но в целом в обществе процессы протекают гораздо сложнее. Линейный трендовый, экстраполяционный подход часто не учитывает наличие целого комплекса взаимовлияющих тенденций, порождающих «интерференцию» новых комплексов факторов и линейных тенденций, которые, в свою очередь, неизбежно влияют на социальные отношения, экономику, политику, нравственность, культуру, и не всегда положительно. Возникает противоречивый и туманный образ переплетения экстраполяционных линейностей , исключающий более или менее адекватный прогноз. Так, например, Е. Гайслер, экстраполируя, видит будущего человека через призму технологического развития, который должен обладать способностями, необходимыми для технологического прогресса XXI века (Geisler, 2001).
Развитие «техносоциума» и усовершенствование способностей с помощью био- и техноноваций считаются в рамках бытующих вариаций трансгуманизма вполне достаточными, а вопрос о человеке, как духовно-нравственном феномене будущего, снимается с повестки дня.
Переосмысление трансгуманизма . Идеи трансгуманизма в последние годы приобретают все большую научную и культурную популярность. Общий знаменатель трансгуманитарных моделей общества внешне выглядит довольно привлекательно. Ставятся задачи развития потенциала человека, прежде всего с помощью различных технологий: цифровых, биогенетических, медицинских. Вполне объяснимо искушение улучшить человека. Но следует иметь в виду, что научно-технологический прогресс всегда порождает две линии развития: позитивную и негативную, что связано с возникновением многих морально-этических проблем. Э. Фромм предлагал подход «нормативного гуманизма», который основан на допущении того, что проблему человеческого существования, как и любую другую, можно решить правильно и неправильно, удовлетворительно и неудовлетворительно (Фромм, 2011: 17). Он давно увидел сущность «полностью механизированного» общества, управляемого компьютерами, где «человек, сытый и довольный, но пассивный, безжизненный и бесчувственный, все больше превращается в частицу тотальной машины» (Фромм, 2006: 11).
Трансгуманистическое движение, ставшее глобальным, породило мощную дискуссию. Как отмечает В.А. Луков, «на одной стороне в дискуссии стоят ярые сторонники этой доктрины, видящие в ней новое мировоззрение, направленное в будущее. На другой – непримиримые критики», характеризующие трансгуманизм как «наиболее опасную в современном мире идею» (Луков, 2017: 246). Идеология трансгуманизма «задумывалась “с двойным дном”: ее истинное нутро, ее “изнанка” – для узкого круга, а ее “витринная” часть – для остального человечества» (Пилецкий, 2021: 176).
Действительно, негатив трансгуманизма с позиций традиционной современности бросается в глаза. Антигуманные, нечеловеческие проявления в концептуальных моделях трансгуманизма вызывают серьезное беспокойство по поводу будущего. Французский ученый Люк Ферри в первой главе книги «Трансгуманитарная революция», давая всесторонний анализ трансгуманизма, утверждает, что постчеловечество в действительности не обладает ничем человеческим, так как не будет основано на живом (Ferry, 2016).
В манифесте Российского трансгуманистического движения содержится следующее понимание центрального понятия: «Трансгуманизм – это новое гуманистическое мировоззрение, которое утверждает не только ценность отдельной человеческой жизни, но и возможность и желательность – с помощью науки и современных технологий – безграничного развития личности», выхода за считающиеся сейчас “естественными” пределы человеческих возможностей»1.
Нечеткость и весьма общий характер представлений трансгуманистов, как справедливо утверждает В.А. Луков, сближает их «с фантастикой, сферой художественного вымысла» (Луков, 2017: 245). Поэтому вполне допустимо говорить о некоторой преждевременности идей трансгуманизма, отраженных в допущениях технологий, которые лишь в принципе могут быть осуществимы в неблизком будущем при определенном ходе событий. Трансгуманизм в идеях его современных сторонников выглядит фантастической и утопической идеей, которая связана с действительно реальными, но лишь начальными экспериментальными, пробными, по сути, операциями чипизирования и цифрового имплантирования. «Это своеобразное футурологическое мифотворчество, выросшее из осознания новых небывалых технических возможностей» (Сакирко, 2012).
Другое направление, которое многие в дискуссиях хотят представить в положительном свете, – это трансгуманитарная евгеника. Аллен Бьюкенен замечает: «Соперничающие стороны предполагают, что если можно доказать, что чьи-то взгляды являются “евгеническими”, то они тем самым будут дискредитированы» (Buchanan, 2000: 9–10). Действительно, евгеника давно имеет негативный статус. Но в современном мире уже возникает возможность с помощью биотехнологий и элементов генетики реально увеличить сопротивляемость организма, избежать наследственных болезней, улучшить здоровье и т. д. Вряд ли стоит отказываться от этого. Любая технология может быть использована на благо человека, и можно согласиться с утверждением, что «две вещи необходимы для решения этого спора: этическое вскрытие старой евгеники и изучение этических предпосылок и последствий новой генетики» (Buchanan, 2000: 10).
В качестве альтернативы современного варианта трансгуманистической концепции может выступать концепция русского космизма, которая даже в наиболее утопичных представлениях Н.Ф. Федорова связана с обязательной духовно-нравственной эволюцией (Воронцова, Хиль Марти́нес, 2022: 115). Российское трансгуманистическое движение дает следующее определение трансгуманизма: «Трансгуманизм – это рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека»1. Обращает на себя внимание то, что в определениях трансгуманистов говорится о биотехнологических и техницистских методах улучшения человека, но отсутствуют цели по изменению к лучшему моральных, нравственных и позитивных социальных качеств человека. Без них трансгуманизм может стать самой опасной идеей в мире как продукт деятельности эгоистических групп общества, преследующих свои интересы. При этом энтропия человеческого в ходе возможных будущих трансгуманистических экспериментов может привести общество к монструозной деформации и разрушению.
Таким образом, трансгуманизм приемлем только как процесс усиления и развития гуманизма. Если исходить из новой версии трансгуманизма, большую роль играет то, в каких социальных условиях, среде и в каком обществе осуществляется позитивная трансгуманизация общества.
Автор предлагает наполнить этот термин новым содержанием. Трансгуманизм – это переход, постоянное «транзитивное» движение и совершенствование человека без утраты гуманизма как принципа будущего . Приставка «транс-» означает не только выход за пределы чего-то, как предлагают трансгуманисты, но и движение. Перевод латинского слова transcensus означает «изменение, переход в новое качество». Гуманистическая основа при этом – это та постоянная идеология (константа), которая гарантирует сохранение человека как позитивной личности в его сущности. Ради этого необходим сознательный отказ от применения к человеку целого ряда технологических новаций, способных потенциально и реально разрушать все гуманистическое богатство личности человека. В будущем это должны быть «люди, не “тронутые” научно-техническим прогрессом и чипированными, запрограммированными мозгами, находясь в среде высокоразвитой техники будущего, они сохраняют естественные базовые позитивные черты личности и человеческого достоинства» (Сивиринов, 2021: 32).
С идеей трансгуманизма связана концепция постгуманизма, однако, согласно логике самого термина, «пост-» – это то, что после гуманизма, то есть уже не является гуманизмом. А. Гринфилд, весьма реалистично подходя к прогнозной негативной оценке постгуманистической идеологии, считает, что мы должны уметь разглядеть «предсказуемо низкие и слишком человеческие желания, включая желание извлекать прибыль из эксплуатации других и неприкрытую волю к власти и контролю» (Гринфилд, 2018: 417).
В противовес широко представленному негативу, присущему трансгуманизму, попытаемся представить его в форме альтернативы – как постоянную динамику действительного улучшения общества. Если обратиться к логике К. Маркса, перефразируя его высказывание о коммунизме2, то в этом случае трансгуманизм утрачивает имеющий место романтический фанатизм и становится не состоянием, которое должно быть установлено, не идеалом, с которым должна сообразоваться действительность, а «действительным движением» , которое уничтожает теперешнее нежелательное состояние и утверждает действительный, сущностный гуманизм. В действительной динамике гуманизма в принципе допустимо было бы применять биогенетические технологии в противовес технологиям имплантации неживого в тело человека, но, сохраняя суть гуманизма, использовать возможности совершенствования человека, прежде всего, с нравственно-ценностной стороны.
На наш взгляд, было бы предпочтительно трансформировать лозунги трансгуманизма и наполнить их новым гуманистическим, человеческим соДержанием. С моральной точки зрения улучшение человеческих способностей, увеличение продолжительности жизни (не бессмертие), защита от болезней – это, в принципе, позитивные цели, к которым человечеству действительно имеет смысл стремиться, но в определенных пределах. Н. Херцфельд с сомнением замечает, что технологии продолжительности жизни дарят человеку больше времени, но эти технологии не указывают, чему мы можем посвятить наше время (Herzfeld, 2017: 294–295).
Таким образом, гуманистический вектор, прежде чем осуществлять эти «улучшения», требует комплексного подхода, который предполагает улучшение качества жизни человека во всех основных сферах: духовно-нравственной, культурной, научно-интеллектуальной, при обеспечении базового материального и социального равенства. Только тогДа сами инициаторы и исполнители всех мелиоративных технологий смогут действовать с позиций социальной справедливости, а не избирательно, избегая группового социального эгоизма. Такой путь наиболее предпочтительный в буДущем, когда технологии улучшения человека приобретут гуманистический характер только при условии революционного, качественного, нравственного преобразования людей. В буржуазном обществе при актуальном уровне человеческой морали и развития межчеловеческих отношений это в принципе недостижимо. В современном обществе генная инженерия при недостаточно развитом современном уровне может вызвать серьезные негативные последствия. В то же время широкий комплекс небиологических технологий, подчиняющихся человеку, может меняться и улучшать жизнь людей, создавать параллельный осторожным биотехнологиям технико-технологический мир без угрозы гуманизму.
Следует заметить, что определенный антропоцентризм нового трансгуманизма стоит понимать как гуманизм, который должен быть не столько жесткой мерой или фиксированным эталоном цели, сколько мерой баланса социального взаимодействия человека и общества, обеспечивающей оптимально необходимые человеческие социальные условия жизни. Поэтому не нужно идти в фарватере античеловеческих трансгуманистических построений западных теоретиков. Гуманистический консерватизм в сочетании с гуманистическим технико-технологическим развитием способен сохранить человеческое в условиях технического прогресса.
Важно подчеркнуть, что трансгуманизм сейчас можно рассматривать в большей степени как элемент научно-теоретического дискурса, чем ближайшей практики. Тем не менее в формировании будущего общества антропный, гуманистический принцип, безусловно, связан с человеческой идентичностью и, следовательно, с сущностью человека.
В связи с этим обратимся к высказыванию К. Маркса о том, что сущность человека есть «совокупность всех общественных отношений». Действительно, если исходить из современных общественных отношений, каковы они есть, то актуальная сущность человека, как совокупность (и результат!) СЕЙЧАС существующих общественных отношений, с ее качествами, и само общество оставляют желать лучшего и вряд ли могут нас удовлетворить. Поэтому позволим себе другую логику: сущность человека в такой же мере есть совокупность общественных отношений, в какой сущность общества есть совокупность всех человеческих качеств.
Отсюда, гуманизация общества возможна, прежде всего, с изменением к лучшему всей совокупности человеческих качеств. Это означает, что общество и степень его гуманизации зависят от качеств людей. Таким образом, переход, «трансцензус», как внутренний процесс позитивного трансгуманизма, связан с формированием качественно нового «человеческого измерения» (Си-виринов, 2001), на которое должно ориентироваться будущее общество в реализации альтернативного трансгуманитарного проекта.