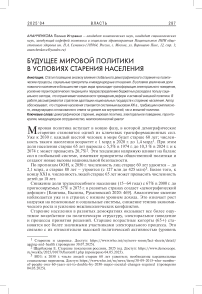Будущее мировой политики в условиях старения населения
Автор: Ананченкова П.И.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу влияния глобального демографического старения на политические процессы, социальные приоритеты и международные отношения. В условиях увеличения доли пожилого населения в большинстве стран мира происходит трансформация электорального поведения, усиление геронтократических тенденций и перераспределение бюджетных расходов в пользу социального сектора, что ограничивает возможности для проведения реформ и активной внешней политики. В работе рассмотрены стратегии адаптации национальных государств к старению населения, обосновано, что старение населения становится системным вызовом XXI века, требующим комплексного, международно согласованного ответа на уровне как внутренней, так и внешней политики.
Демографическое старение, мировая политика, электоральное поведение, геронтократия, международное сотрудничество, межпоколенческий диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/170211084
IDR: 170211084
Текст научной статьи Будущее мировой политики в условиях старения населения
М ировая политика вступает в новую фазу, в которой демографическое старение становится одной из ключевых трансформационных сил.
Уже к 2030 г. каждый шестой человек в мире будет старше 60 лет; численность такого населения возрастет с 1 млрд в 2020 г. до 1,4 млрд1. При этом доля населения старше 65 лет выросла с 5,5% в 1974 г. до 10,3 % в 2024 г. и к 2074 г. может превысить 20,7%2. Эти тенденции напрямую влияют на баланс сил в глобальной системе, изменяют приоритеты общественной политики и создают новые вызовы национальной безопасности.
По прогнозам ООН, к 2050 г. численность лиц старше 60 лет удвоится – до 2,1 млрд, а старше 80 лет – утроится (с 127 млн до 425 млн)3. Более того, к концу XXI в. численность людей старше 65 лет может превысить численность детей до 18 лет.
Снижение доли трудоспособного населения (15–64 года) с 67% в 2000 г. до прогнозируемых 57% в 2075 г. в развитых странах создает «демографический дефицит» [Блинова, Былина, Русановский 2020: 469]. Аналогичное явление наблюдается уже и в странах с низким уровнем дохода. Это означает рост нагрузки на пенсионные и социальные системы, снижение темпов экономического роста и усиление межпоколенческих конфликтов.
Старение населения в развитых демократиях оказывает все более ощутимое воздействие на политическую структуру, электоральное поведение и процессы принятия решений. Старшие возрастные когорты (65+) становятся все более значимыми участниками электорального процесса. Это связано с их относительно высокой политической активностью (уровень участия в выборах среди пожилых выше, чем у молодежи), а также с абсолютным увеличением их численности. Увеличение числа пожилых избирателей приводит к так называемым геронтократическим сдвигам – политическим решениям, преимущественно ориентированным на интересы старшего поколения. Это проявляется в сохранении и расширении социальных льгот, пенсий и медицинского страхования в ущерб инвестициям в образование, цифровую инфраструктуру и программы занятости для молодежи. Подобные сдвиги усиливают бюджетное давление и снижают гибкость государственных стратегий развития. Политические партии, особенно в Европе, все чаще формируют повестку с учетом предпочтений пожилых избирателей. Это приводит к «консервативной политизации возраста» – преобладанию тем стабильности, социальной защиты, умеренной миграционной политики.
Такое смещение приоритетов вызывает напряженность между поколениями. Молодежь, не обладая сопоставимым электоральным влиянием, сталкивается с ограничением политического представительства и снижением уровня инвестиций в собственное будущее. Это усиливает запрос на альтернативные формы политической мобилизации – климатические движения, цифровой активизм, кампании за межпоколенческое равенство.
Рост доли пожилого населения затрудняет проведение структурных реформ, особенно в сферах труда, налогообложения и пенсионной системы. Пожилые избиратели часто демонстрируют сопротивление изменению статус-кво, что тормозит модернизационные процессы. Кроме того, в странах с парламентской системой может наблюдаться уклон в сторону краткосрочной социальной политики в ущерб стратегическому планированию.
Таким образом, политическая турбулентность, вызванная старением населения, приобретает устойчивый и институционализированный характер. Возраст становится не только демографической, но и политической категорией, влияющей на формирование национальных приоритетов, партийных программ и даже характера самой демократии. Это требует переосмысления моделей представительства, усиления межпоколенческого диалога и внедрения механизмов согласования интересов поколений в рамках устойчивой политической системы.
Демографическое старение оказывает значительное влияние на структуру бюджетных расходов, вызывая эффект crowding-out , когда ресурсы перераспределяются в пользу социальных программ – пенсий, здравоохранения и соцзащиты, что сокращает долю оборонных вложений. Эмпирические исследования, охватившие 150 стран в период 1992–2021 гг., подтвердили наличие такого эффекта: страны с большей долей лиц старше 65 лет направляют больше средств на социальные нужды, снижая военные траты [Вишневская 2021: 144]. Сильнее всего эффект выражен в «стареющих обществах» – с 20% и выше пожилых людей. Это ведет к снижению стратегического приоритета силовой экспансии и смещению внимания на внутреннюю стабильность.
Так, например, Китай и США демонстрируют противоположные демографические траектории, влияющие на их международный потенциал. Согласно экспертным данным, доля лиц старше 60 лет в КНР к 2040 г. может достигнуть 28% [Селиверстова 2020: 156]. Одновременно численность трудоспособного населения продолжит снижение: Китай имеет один из самых низких и быстро падающих уровней рождаемости, а ежегодная убыль населения превысила 850 тыс. чел. в 2022 г. [Сюй Яньли 2017: 81]. Прогнозы также указывают, что число граждан 60+ к 2035 г. превысит 450 млн (25% всего населения) [Fang
Lieming 2019: 41]. США, напротив, демонстрируют устойчивый прирост трудоспособного населения примерно на 10% к 2040 г. благодаря иммиграции и более высокому уровню рождаемости (≈1,6 детей на женщину), что существенно ниже порога воспроизводства, но компенсируется притоком мигрантов [Александров 2018]. Это придает Америке устойчивость в экономике и международных стратегических амбициях, позволяя сохранять и наращивать оборонный потенциал, не снижая при этом социальную поддержку.
Таким образом, демографическая устойчивость становится фактором стратегического превосходства, сдерживая Китай и усиливая США в геополитической конкуренции.
В странах ЕС стареющее население оказывает давление на политические институты. По данным Евростата, на 1 января 2024 г. на лиц 65+ приходилось 21,6% населения ЕС, в Германии – 22,4%, а Италии – около 24%, причем обе страны ожидают дальнейшего увеличения их доли до 28–30% в ближайшие десятилетия1. В таких условиях электоральное влияние пожилых становится доминирующим, что ограничивает реформаторские маневры политических элит.
Пожилые избиратели активно выступают за сохранение социальных программ, избегая рискованных структурных изменений – будь то пенсионная реформа, миграционная политика или цифровизация экономики. Партии подстраиваются под эти предпочтения, перераспределяя акценты в сторону социальной стабильности, а не инноваций. Это ведет к политической инерции, когда внешняя политика ориентируется скорее на прогнозируемую внутреннюю поддержку, чем на гибкие стратегические инициативы.
Старение населения становится важным фактором, конструирующим новую парадигму мировой политики: военная активность сокращается, страны ориентируются на социальную устойчивость, геодемографическая конкуренция меняет баланс между гигантами, а возрастной электорат формирует политический курс государств. Это требует от международных акторов переосмысления стратегий: при планировании оборонных, социальноэкономических и дипломатических инициатив следует учитывать демографический контекст.
Среди основных стратегий адаптации государственной политики к демографическому старению можно назвать следующие.
-
1. Повышение пенсионного возраста и пенсионных стимулов. В условиях роста доли пожилых граждан правительства реализуют пенсионные реформы, стремясь уравновесить демографические нагрузки и финансовую устойчивость пенсионных систем.
-
2. Активизация миграционной политики. Государства с сокращающимся населением смягчают миграционные регуляции, признавая роль мигрантов в пополнении трудового резерва. Так, например, в Японии число иностранных жителей выросло с ≈300 000 чел. в 2008 г. до 3,76 млн на конец 2024 г., т.е. примерно 3% населения3. При этом в 2024 г. утвердилась новая государственная миграционная система для стажеров и квалифицированных работников, направленная на их долгосрочную интеграцию. Несмотря на гарвардские инициативы по приему 300 тыс. иностранных студентов с правом на работу, темпы прироста мигрантов остаются ограниченными культурными барьерами и националистическими настроениями4. Страны Европейского союза активно привлекают мигрантов для замещения «дефицита молодых» и балансировки пенсионных систем, что является важнейшим направлением адаптационной демографической политики.
-
3. Технологии продления трудового потенциала и lifelong learning . Высокая продолжительность жизни требует новых решений на рынке труда. Lifelong learning – непрерывное образование – становится ключевым инструментом. Организация экономического сотрудничества и развития ( OECD ) рекомендует улучшать доступ к программам повышения квалификации и признавать компетенции, приобретенные в ходе работы. Существующие практики показывают эффективность инициатив в этом направлении.
Так, в Германии с 2024 г. запланировано повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2031 г. (минимальный возраст – 65,8 лет на момент реформы). Введены бонусы за отсрочку выхода на пенсию, включая единовременные выплаты и дополнительные взносы работодателей, что может увеличить заработок на 10,6% для добровольно работающих старших возрастов (60+)1. Однако такие меры вызывают общественное недовольство, поскольку продолжение работы воспринимается как вынужденная мера, особенно там, где возрастные льготы укоренены в культуре труда.
В апреле 2023 г. парламент Франции повысил возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, что спровоцировало массовые протесты (1–3,5 млн участников) и забастовки по всей стране2.
В Германии за 20 лет средний возраст выхода на пенсию вырос благодаря реформам: пенсионный возраст поднят до 67, отменены досрочные пенсии, запущены программы обучения работников возраста 50+ [Хришкевич, Васильева 2019: 174]. США и другие страны используют гибкие формы занятости для более зрелых сотрудников (50+), сочетая занятость, поддержание здоровья и обучение.
В условиях глобальных демографических трендов формируются новые форматы международного сотрудничества. Среди них все более активное развитие получает демографическое измерение глобального управления. Демографическое старение все чаще рассматривается как фактор, влияющий на глобальные процессы управления, устойчивого развития и мировой безопасности. Вопросы старения населения регулярно поднимаются на форумах высокого уровня.
ООН включает тему старения в резолюции с начала 1980-х гг., а в 2002 г. был принят Мадридский международный план действий по проблемам старения, который призвал государства учитывать интересы пожилых людей в стратегии развития [Сидоренко 2019: 36]. Тем не менее 20 лет спустя отчет ООН за 2022 г. указывает на слабую реализацию обязательств, фрагментарность подходов и отсутствие механизмов мониторинга исполнения [Кугач, Троина 2014: 156].
На саммитах G20 и Всемирного экономического форума вопросы старения, как правило, обсуждаются в контексте устойчивости пенсионных систем и изменения рынка труда, но не системно включаются в повестку глобального развития, как, например, климат или цифровизация. Это создает «демографический вакуум» в международных институтах.
Проблема осложняется тем, что старение воспринимается как локальный вызов, в то время как его последствия носят транснациональный характер: это миграция, снижение производительности труда, рост глобального спроса на медицинские и социальные услуги, перераспределение инвестиционных потоков и изменение структуры глобального спроса.
Вместе с тем в условиях растущей глобальной демографической асимметрии назрела необходимость формирования новых институтов, способных координировать демографическую политику и формировать согласованные межгосударственные механизмы. В числе перспективных нами рассматриваются и предлагаются к научному обсуждению следующие направления:
-
1) формирование Международного агентства по демографической устойчивости. Аналогично ВОЗ или ВМО, такое агентство могло бы:
-
– вести глобальный мониторинг показателей старения, миграции и трудовой активности;
-
– координировать межстрановые исследования и обмен лучшими практиками в области «активного долголетия»;
-
– вырабатывать типовые международные нормы демографической политики (например, по пенсионной реформе или здравоохранению пожилых);
-
2) разработка механизма межпоколенческого согласования. Этот формат может включать:
-
– международные конференции и советы по «политике возраста»;
-
– включение представителей разных поколений в процесс разработки глобальной стратегии устойчивого старения;
-
– развитие диалога между молодежными и «серебряными» организациями в формате ООН, ECOSOC или Глобального договора;
-
3) заключение международных соглашений о взаимном признании пенсионных прав. В условиях растущей трудовой мобильности и диаспоризации целесообразно заключение соглашений между странами – членами интеграционных блоков (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН и др.):
-
– о взаимном признании стажа, пенсионных накоплений и прав;
– переносимости социальных выплат для пожилых мигрантов;
– защите медицинских и социальных гарантий для пожилых граждан, находящихся за рубежом;
-
4) создание Глобального фонда «Солидарность поколений». По модели Глобального фонда борьбы со СПИДом/туберкулезом может быть создан целевой механизм финансирования программ активного старения, цифровой геронтологии, образования пожилых, развития инфраструктуры «умного ухода» в развивающихся странах.
Таким образом, в условиях старения населения в большинстве стран мира международное сотрудничество в демографической сфере приобретает все более насущный характер. Сегодня мировое сообщество стоит перед необходимостью институционализации усилий по формированию глобального демографического режима, в котором вопросы возраста, справедливости и устойчивости будут занимать системное место наравне с климатической повесткой или цифровой трансформацией. Без этого существует риск усиления демографической фрагментации, роста межгосударственного и межпоколенческого неравенства и неспособности адаптироваться к изменениям, определяющим XXI в.
Демографическое старение – это структурный вызов, способный преобразовать мировую политику через изменение экономических ресурсов, электоральных приоритетов и национальной безопасности. Варианты адаптации – это пенсионные реформы, миграционная политика и технологические инновации, но все они нуждаются в международно согласованной стратегии. Создание эффективных глобальных институтов демографической координации станет важнейшей задачей будущего.