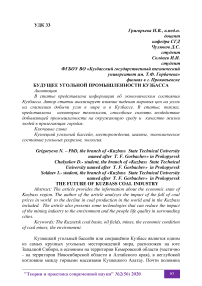Будущее угольной промышленности Кузбасса
Автор: Григорьева Н.В., Чулюков Д.С., Солдаев И.И.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (56), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена информация об экономическом состоянии Кузбасса. Автор статьи анализирует влияние падения мировых цен на уголь на снижении добычи угля в мире и в Кузбассе. В статье, также, представлены некоторые технологии, способные снизить воздействие добывающей промышленности на окружающую среду и качество жизни людей в прилегающих городах.
Кузнецкий угольный бассейн, месторождения, шахты, экономическое состояние угольных разрезов, экология
Короткий адрес: https://sciup.org/140289559
IDR: 140289559 | УДК: 33
Текст научной статьи Будущее угольной промышленности Кузбасса
Кузнецкий угольный бассейн или сокращённо Кузбасс является одним из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири, в основном на территории Кемеровской области (частично - на территории Новосибирской области и Алтайского края), в неглубокой котловине между горными массивами Кузнецкого Алатау. Почти половина запасов сосредоточена в Ленинском и Ерунаковском геолого-экономических районах (по 18 млрд т), значительными запасами обладают Томь-Усинский и Прокопьевско-Киселевский (по 7 млрд т), Кондомский и Мрасский (по 4 млрд т), Кемеровский и Байдаевский (по 3,3 млрд т) и другие районы. В настоящее время промышленностью освоено 16 % запасов [4].
Сегодня горняки области добывают 227 млн тонн каменного угля в год. В последние десятилетия темпы роста угледобычи и правда были высокими. Ещё в 1994 годы мы добывали всего 93 млн тонн. Но сегодня мы считаем, что к 2030 году угольщики будут добывать около 260 млн тонн топлива. И это тот самый рубеж, который нельзя преодолевать, чтобы всё было сбалансировано и безопасно.
У нас в области имеется 25 геолого-экономических районов. Угольщики более-менее осваивают 13-14 из них. Прирост добычи угля в Кузбассе сейчас идёт за счёт открытых горных работ (на разрезах теперь добывают около 70% угля, хотя 10-15 лет назад они давали лишь 50% топлива) [2, с.280].
Глядя на фотографии Кузбасса, сделанные из космоса, трудно понять логику распределения угледобывающих предприятий. Есть какая -либо система? Можно угадать, где будут копать уголь в ближайшие десятилетия, и заранее оттуда уехать?Системы нет никакой. Получение лицензий на разработку недр носит заявительный характер. Представители предприятия просто выбирают участок и подают на него заявку. Угадать, где будет следующий разрез, на годы вперёд невозможно. Есть перспективные участки. Например, на правом берегу Томи Терсинское месторождение. Там строят шахту «Увальную». Запасов угля - лет на 50. В районе Менчерепа угля ещё минимум на 20 лет.
Однако надо учитывать особенности строения нашей земли. «Господь Бог благоволит пьяницам, дуракам и Соединённым Штатам Америки», – говорил Бисмарк. И в США геология угольных месторождений просто идеальная. Пласты у них, как доска, идут под небольшим углом, без нарушений, средняя глубина шахт у них около 70 метров и глубина разрезов такая же. И выбуривание у них идёт до 300 метров. А у нас всё перемято и перекручено.
Потому что в нашем регионе с одной стороны горы, с другой горы. И образование угольных пластов по времени здесь было другое, тектонические условия другие. В итоге мы имеем свиты пластов. И если один пласт выбираешь, то и второй нарушается. Газ идёт, обрушения, вода. На одну тонну добытого угля мы теряем три тонны угля в недрах. Угольные пласты у нас уходят вглубь под крутым углом. Например, «Бачатский» у нас самый глубокий разрез. Он уже 300 метров в губину. И речи быть не может, чтобы на его месте восстановить прежний ландшафт. Такую глубокую яму площадью 3 на 10 км уже не засыпать. Никакая экономика не выдержит такой нагрузки.
Запасы каменного кузбасского угля приблизительно оцениваются в 52 млрд тонн. В начале 80-х годов прошлого века они оценивались примерно в
68 млрд тонн. Есть ещё на территории области мощные пласты бурого угля Канско-Ачинского бассейна – около 90 млрд тонн [1, с.8]
Аман Тулеев говорит, что угля нам хватит на 500 лет. До 2040 года планируется рост добычи угля в мире. И сейчас мир добывает 7 млрд тонн угля в год.
Но у нас с каждым годом добыча угля будет всё сложнее. Программного освоения месторождений у нас так и не зародилось. Системы распределения участков нет. Каждый берёт то, что считает пожирнее. И неясно, что нужно стране. Ведь Россия потребляет 90 млн тонн угля в год, а мы добываем 227. Львиная доля угля отправляется на экспорт. Мы сейчас торгуем тем, что могло бы нам очень пригодиться потом. Ведь сейчас началась разработка месторождений, которые были стратегическими, на случай войны.
Тем более у нас есть неотработанные участки. Самый значимый из таких – Прокопьевск. Добывать уголь там уже невозможно. Под городом огромные залежи, но доступа к ним человечество пока не имеет. Пласты очень круто уходят вниз. А на определённой глубине уголь становится уже очень дорогим. Его просто никто не купит.
Сейчас на угледобычу влияет несколько факторов.
Первая, она же официальная версия — сложности с РЖД, отсутствие провозной способности добываемого в регионе топлива. Об этом кузбасский губернатор говорил на встрече с президентом, и над решением этой проблемы сегодня стараются работать власти.И в этом смысле расширение БАМа и Трансиба действительно может стать решением.«Нас давит отсутствие провозной способности РЖД на восточном направлении. Мы в прошлом году были инициаторами собрания топливной комиссии, избиралась угольная отрасль. Были приняты серьезные шаги развития железных дорог на восток», — сказал Сергей Цивилёв в интервью изданию VSE42.Ru.
Вторая причина — снижение спроса на наш уголь в Европе. В связи с этим резко снизились цены на экспортируемый «чёрный алмаз» — они достигли минимума со времён 2016 года.Учитывая существенные затраты на транспортировку до потребителя, угледобыча становится убыточной. Наш уголь стал меньше интересовать Европу, поскольку здесь развивается альтернативная генерация, в частности, растут мощности СПГ. Причём растут с такой скоростью, что предложение превысило спрос: в том числе и из-за прошлой тёплой зимы в хранилищах остался газ [1, с.23].
Добавим к этому экологические программы, установку на «декарбонизацию экономики», развитие ветряков и солнечных батарей, информацию о том, что в Европу везут, по большей части, энергетический уголь, и всё встанет на свои места.Цена поставляемого в Европу угля существенно снизилась. Многие страны стараются переходить на возобновляемые источники, «зелёную» энергетику.
Прекратились поставки угля и нефти в Украину, а она, в свою очередь, запретили угольный транзит через свои территории. Есть потребность в угле на Востоке, но здесь не развита транспортная инфраструктура.
В итоге угольщики могут добывать больше, чем реально вывозить. В результате склады переполнены, некоторые предприятия остановили работу. Как следствие, замедлились процессы обновления парка техники угольными предприятиями», — рассказал представитель одного из крупных производителей спецтехники.
Ну и третий существенный момент. Подобные идеи в кулуарах высказывают многие частники рынка, однако громко заявлять об этом не спешат. «Общественники», как водится в таких ситуациях, говорят прямее.
«К кризису привели объективные и субъективные причины. Тот факт, что Украина частично отказалась от нашего угля, ряд европейских стран снизил объемы потребления, можно отнести к объективным.
А вот настойчивое желание олигархов получать сверхприбыль через офшоры даже при падающих ценах — это уже субъективный элемент.
И получается, как в том анекдоте: «Сынок, это не папа будет меньше пить, а вы с мамой меньше есть». Снижать аппетиты по прибыли никто не намерен», — сказал член федеральной программы ОНФ «За честные закупки» Максим Учватов в интервью «ФедералПресс».
В безугольное будущее наши эксперты не верят: ни развитие альтернативной энергетики, ни Парижское соглашение не смогут сдвинуть уголь с рынка — он всё равно будет востребован.
А вот изменение подхода к работе с углём — это, пожалуй, наше ближайшее будущее.
Если говорить об уже добытом, то в 2017 году добыли 208 млн тонн, в 2018-м — 222 млн тонн. По мнению Алексея Партолина, тенденция к увеличению объёмов сохранится, несмотря на слова экс-губернатора Тулеева про порог в 200 млн тонн в год.
Технологии, способные снизить воздействие угольщиков на окружающую среду, на качество жизни в окрестных сёлах является подземный способ добычи угля – щадящая для природы технология. Ты вырыл шахту, вынул угольный пласт, но сверху плодородный слой почвы не нарушен. Открытые горные работы должны иметь ограничение, свой предел, за которым уже нужно использовать другие технологии. Например, есть безлюдная технология «Хай Волл» – выемка угля с борта разреза. Комплекс ставят к борту разреза, он выбуривает пласт угля площадью четыре на четыре метра и на 200 (до 500) метров в глубину. Вынимает уголь, сразу отгружает и переходит на следующий участок. Впервые её испытали у нас на разрезе «Распадском». В 2002 году за границей работало уже 150 комплексов, а у нас один. Но на «Распадском» комплекс не прижился, потому что кровля расслаивалась и осыпалась. А вот на «Барзасском» разрезе такой комплекс пошёл бы, так как там пятиметровый неразрушаемый монолит. Сейчас этот комплекс работает на «Талдинском» разрезе.
Вероятно, это влияет на экономику каждого предприятия. Рекультивация – занятие не из дешёвых. На этот вопрос заведующим лабораторией эффективных технологий разработки угольных месторождений
Валерий Федорин ответил следующим образом: «Свои требования к угольщикам есть по всему миру. Ты ведь должен думать не только о деньгах, но и о том, где ты живёшь, где работаешь, как твоя работа сказывается на экологии региона. И можно лишь посетовать, что у нас другие условия и наши угольщики действительно не располагают теми возможностями, которые имеют австралийцы. Если наш уголь нужно не только добыть, но и провезти 4 тыс. км до порта (а перевозка нашего угля дороже себестоимости его добычи), то в Австралии уголь добывают практически на побережье – в 20-30 км от океана. И то, что мы тратим на транспортировку угля, они могут вкладывать в рекультивацию, в экологические мероприятия. В связи с этим стоит отметить одну российскую тенденцию – добыча угля в нашей стране постепенно смещается на восток».
Стоит отметить, что наши экологи следят за ситуацией. Институт экологии человека по заказу ООН делал работу об экологической ситуации в угледобывающих районах. Благодаря их работе, мы видим состояние почвы, воды, воздуха, биоразнообразие в тех местах, где хотят добывать уголь, где его добывают [3, с.32].
Таким образом, чтобы кузбасский уголь был конкурентоспособным, его нужно улучшать, то есть обогащать. Поэтому сегодня в регионе такой спрос на обогатительные фабрики, и вследствие нынешних событий, мы полагаем, этот спрос будет только расти. Всё закономерно: в первую очередь добывают то, что приносит экономический эффект, и приносит в короткие сроки. И такие лёгкие запасы уже заканчиваются. Сегодня ведутся более тщательные изыскания, поднимаются балансовые запасы. При работе с таким продуктом однозначно требуется обогатительная фабрика.
Список литературы Будущее угольной промышленности Кузбасса
- Владимирова Е.А. Мировой рынок угля и перспективы российских экспортеров // Уголь. - 2008. - № 2. С. 8-24.
- Ильичев А.И., Виткин М.П., Калишев Н.В. КУЗБАСС - ресурсы - экономика - рынок. Кемерово, 1995. - 280 с.
- Назарбаев Е.Ж. Современное состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического комплекса // Уголь Кузбасса. - 2009. - № 3. - 32с.
- [Электронный ресурс]- Режим доступа http://ru.wikipedia.org/wiki дата обращения (дата обращения: 14.02.2020)