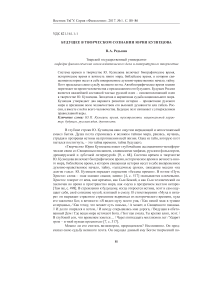Будущее в творческом сознании Юрия Кузнецова
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Система времен в творчестве Ю. Кузнецова включает биографическое время, историческое время и вечность иного мира, библейское время, в котором священная история несет в себе вневременное духовно-нравственное начало, тайну. Поэт предсказал свою судьбу великого поэта. Автобиографическое время плавно перетекает во время человечества с предсказанием его будущего. Будущее России является важнейшей составной частью русской идеи – основополагающей идеи в творчестве Ю. Кузнецова. Загадочна и вариативна судьба национального мира. Кузнецов утверждает два варианта развития истории – процветание русского мира и признание всем человечеством его высокой духовности или гибель России, а вместе с ней и всего человечества. Будущее поэт связывает с утверждением православной веры.
Ю. п. кузнецов, время, пространство, национальный характер, будущее, русская идея, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/146122013
IDR: 146122013 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Будущее в творческом сознании Юрия Кузнецова
В глубине строки Ю. Кузнецова явно ощутим мерцающий и непостижимый смысл бытия. Душа поэта стремилась к великим тайнам мира, рвалась, мучаясь, страдая и прозревая истины на протяжении всей жизни. Одна из тайн, которую поэт пытался постигнуть, – это тайна времени, тайна будущего.
«Творчество Юрия Кузнецова имеет глубочайшие ассоциативно-метафорические связи со Священным писанием, славянскими мифами, русским фольклором, древнерусской и лубочной литературой» [9, с. 68]. Система времен в творчестве Ю. Кузнецова включает биографическое время, историческое время и вечность иного мира, библейское время, в котором священная история несет в себе вневременное духовно-нравственное начало, тайну, «загадочные сроки», ожидание мессии «на долгие годы». Ю. Кузнецов передает ощущение «бездны времен». В поэме «Путь Христа» слова – «как сказано свыше, навек» [4, с. 517] оказываются ключевыми. Христос говорит от века, вне времени, как Сын Божий, а как Сын человеческий он заключен во время и пространство мира, как «муха в прозрачном желтом янтаре» [Там же, с. 498]. В стремлении к будущему, когда откроется истина, поэт и сам ощущает себя, своё сознание мухой, влипшей в смолу. В стихотворении «Муха в янтаре» он выражает страстное стремление вырваться из исторического времени, куда его заключил Бог, к вечности: «Я видел муху моего ума, / Как некий знак в тумане созерцанья, / Как точку, что меняет суть письма, / А может, и Священного писанья. // И долго озирался я потом, / И всюду открывалась мне дорога, / Ведущая в обетованный Дом / Где вещи мира источают Бога. // Бог как смола. Ты крепко влип, поэт. / В глубокий сон, что временем зовется… / Через пятнадцать миллионов лет / Ударит гром – и твой вулкан проснется» [7, с. 317].
Можно ли его считать визионером, прорицателем? Несомненно. Он предсказал свою судьбу великого поэта. Он ощущал данный ему Богом творческий по- тенциал и не боялся об этом сказать. В поэме «Золотая гора» поэт дерзко заявил, что взошел на Золотую гору поэзии и проник в её «странноприимный дом», куда не смогли войти «певцы своей узды, и шифровальщики пустот, и общих мест дрозды», куда не пустили даже «воздушного Блока»: «Где пил Гомер, где пил Софокл, / Где мрачный Дант алкал, / Где Пушкин отхлебнул глоток, / Но больше расплескал. / Он слил в одну из разных чаш / Осадок золотой. / – Ударил поздно звездный час, / Но все-таки он мой!» [3, с. 110].
Вся поэма воспринимается как развернутая метафора сути жизни и поэтического творчества. При этом биографическое и историческое время у него вариативны. Мотив выбора у плиты на распутье трех дорог решается поэтом поистине интегрально: «Тремя путями этот мир / Рассечь или обнять», смерть, скорбь и любовь для него неделимы. Здесь возникает и неразрешимый человеческий вопрос о смысле существования, и образ сатаны, срывающего наживку с крючка, закинутого в мертвую реку, – иной мир, и образ дитя человеческого, бросающего куски сахара в океан, чтобы изменить, подсластить океан жизни, и мотив самоотреченья, когда тень поэта намоталась на колесо повозки слез и её приходится отсечь. Под камнем славы оказывается клубок червей. Земное и небесное, высоту и глубину, свет и тьму, тепло и холод уже здесь поэт не просто противопоставляет, а сопрягает в неразрывном единстве.
Развернутые метафоры поэмы реализовались в судьбе самого поэта и нашей страны, нашего народа. «Золотая гора» – это предсказание своей судьбы, которое не просто реализовалось, а стало поистине сутью всей его жизни. В стихотворении «Посещение Кубани» уже в конце земного пути поэт предрекает «Мне будет памятник стоять / Вот здесь! На этом самом месте!» [7, с. 295].
При этом автобиографическое время плавно перетекает во время человечества с предсказанием его будущего:
Гулом, криками площадь полна,
Там качает героя толпа.
Он взлетает в бездонное небо.
Посулил ли он вечного хлеба Иль дошел до предела в числе, Иль открыл, что нас нет на земле?.. Выше, выше! Туда и оттуда!..
Но зевнула минута иль век – И на площади снова безлюдно… И в пространстве повис человек [3, с. 39].
Здесь, как и во многих других произведениях, для поэта характерен космический масштаб времени, что позволяет перевести стихотворение в символический план. Речь идет о вечных духовно-нравственных проблемах, которые каждому поколению людей надо решать заново, постигая или преодолевая очевидное. Контрастные образы: площадь – небо, вечный предел, минута – век, образы, символизирующие НТР, – накладывают особый отпечаток на проблему героя и толпы. Бурное бессмысленное движение (туда и оттуда) оказывается кажущимся, а неожиданное состояние покоя, когда человек остается в пространстве наедине с собой, должно послужить определенным предостережением человечеству: не обольщаться ложными ценностями.
Свою судьбу поэт неразрывно связывает с судьбой России. «Не мята пахла под горой / И не роса легла, / Приснился родине герой. / Душа его спала» [Там же, с. 138], – утверждает он в зачине поэмы «Золотая гора». С помощью отрицательного параллелизма поэт вводит читателя в эпическую национальную фольклорную тра- дицию с её идеей духовного подвига ради Родины. Многие его стихи – это развернутые метафоры, воплощающие судьбу России. Таково стихотворение «Седьмой» о смертном грехе насилия над собственной матерью и мести братьев друг другу, об их гибели и неутешных слезах поруганной матери. И в «Семейной вечере» – всё о России, судьбе русского народа, отца, матери и детей.
Будущее России является важнейшей составной частью русской идеи, основополагающей идеи его творчества. «Помышляя о грядущей России и подготовляя ее в мыслях, мы должны исходить из ее исторических, национальных, религиозных, культурных и державных основ и интересов» [2, с. 160], – писал выдающийся русский философ Иван Ильин. Этот принцип лежит в основе творчества поэта.
В поэме «Дом» национальный эпический мир создается благодаря сказочным мотивам. Все это можно понимать как развернутую метафору революции, ведь в те годы русский народ, прельщенный, как, видимо, считает автор, во многом необычной, утопической идеей, принесенной к нам с Запада, действительно сжег свой дом (разрушил храмы, уклад жизни). Далее историческое время прямо узнаваемо: «Две войны напустили тумана, / Слева сабли, а справа обрыв. / Затянулась гражданская рана, / Пятилетка пошла на прорыв» [6, с. 59].
Сказочный мотив двух сыновей, умного и дурака, опять-таки накладывается на историческое время, на социум 30-х – 40-х годов. Поэт показывает сложность и непостижимость Руси и законов её жизни, особый национальный эпический мир: «…а край света – на Руси он за первым углом». Мотивы, используемые в сюжете, становятся элементами мира народной жизни, национальной судьбы, увиденной через призму фольклорной традиции, национального характера и мировосприятия, национальной истории.
Все события в поэме разворачиваются под знаком своей земли, своего национального мира. Со словом «Русь» Иван сражался в чужих землях, «Ну, слава богу! Русь идет…» – восклицает Лука, заслышав «слитный гул и ход» освободителей. Да и сам автор в эпилоге, рисуя картину Победы, заявляет: «Я видел Русь с холма…» В отношении Запада и Востока эпическое пространство Руси серединно. «Косматый Запад тучи шлет, Восток – сухую пыль» [Там же, с. 62]. Национальный мир желанен и любим (и в этом смысле идеален): «Цветами родина полна, шипеньем – заграница» [Там же, с. 65]. Образ Дома – символ своего эпического мира. Поэт подчеркивает непостижимость национального пространства и времени, быта и бытия, чувства и мысли. Это и «русский вздох, что удалью зовется», и «свобода русской воли!», и почти философская категория, которой определяет русский человек свою жизнь, – «ничего»: «Что в этом слове “ничего” – / Загадка или притча? / Сквозит вселенной из него, / Но Русь к нему привычна» [Там же, с. 62]. Текст Ю. Кузнецова имеет подтекст, глубину (а может быть, и бездонность). Философия жизни и смерти раскрывается, например, путем художественного анализа понятий «ничего», «никогда». Отталкиваясь от типичной бытовой ситуации «– Как жизнь, родитель? – Ничего» [3, с. 62], поэт создает целую цепь метафор и перифраз, чтобы привести читателя к мысли о непостижимой сложности, диалектичности и закономерности всего сущего в мире. Так же и слово никогда : «Загадка сфинкса и числа, / Обмен или обман. / Оно для старости – скала, / Для юности – туман» [Там же]. Тайна мира, его смысла и предназначенья остаются неразгаданными, как и тайна жизни и смерти, любви и подвига. Как это обычно бывает в героическом эпосе, произведение заканчивается на оптимистической, мажорной ноте, утверждая жизнь. Побеждает светлое начало: «Мария плакала светло», «Поэма презирает смерть / И утверждает свет» [Там же, с. 83].
Кузнецов как бы конкретизирует и наполняет зримыми образами смысл тютчевского «умом Россию не понять…», подчеркивая величие, сложность, противоречивость и загадочность национального мира. Загадочна и вариативна судьба национального мира.
Символом своей земли становится в этом произведении маленький городок Тихий Зарев. Национальное пространство укоренено жизнью прежних поколений и освящено высокими помыслами и идеалами. Бытовые картины соседствуют с образами-символами бытия: «Зарытый в розы и шипы, / Спит город Тихий Зарев – / Без ресторана, без толпы, / Без лифта и швейцаров. / Над ним в холодной вышине / Пылают наши звезды, / Под ним в холодной глубине / Белеют наши кости» [6, с. 62].
Историческая судьба страны, будущее русского народа обусловлены национальным характером. Национальные характеры У Ю. Кузнецова глубоки и значительны, потрясающи в своих крайностях взлета и падения, как в «Братьях Карамазовых» Ф. Достоевского. Светел, прекрасен и благороден, чист, мужествен и верен Иван. Это героический характер. Лука мерзок в своем предательстве, отречении от дома, отца, родного города, родины, брата. Он хитер и изворотлив и в своем отрицании доходит до демонизма, человеконенавистничества. Отстаивая свою неправду, он закладывает под весь существующий мир бомбу и готов взорвать её вместе с собой. Кстати, фугас так и остался зарытым. В символической форме поэт предсказал разрушительный взрыв 1991 года, когда был разрушен Советский Союз. Опасность для национального мира, по мысли поэта, не миновала и теперь.
В поэме создается символический образ зеркала истории, где происходит вся жизнь страны, сопоставленная с масштабом земного шара и вселенной («Мелькали в зеркале века, / И плыл планетный шар»): «Кривой монгол, стальной тевтон / легли на нем слоями. / Повел на Родину масон / Огромными ноздрями. / И отразился декабрист / И с топором студент, / Народоволец и марксист / И тот интеллигент…» [Там же, с. 76].
Символическое зеркало, даже не зеркало, а «зерцало» должно дать ответ, сохранится ли Дом (национальный мир): «Взорвется бомба или нет? / Но истина молчала». Слово зерцало , в отличие от зеркало , чаще употребляется иносказательно, как указывает Даль. В этом смысле («зерцало правды», «зерцало истории») употребляется этот образ в поэме Ю. Кузнецова. Символический свет истории, времени, истины как бы освещает все пространство поэмы. Зеркало таинственно связывает предметный мир с миром сущностей: «Оно сияло со стены неверно и бездонно». Волшебное зеркало отражает не только историю народа, но и личные судьбы в свете истории: препятствием коварным планам Луки становится сияющий свет зеркала со стены родного дома и преданный им погибший брат. Духовная сила человека неу-ничтожима, как и память истории: «Дохнула с зеркала гроза, / И брата тень шагнула, / И заслонила небеса гигантская фигура» [3, с. 82]. Символический образ брата-богатыря оборачивается идущей в наступление Русью.
В этой поэме, как и во многих стихах, Кузнецов утверждает два варианта развития истории – процветание русского мира и признание всем человечеством его высокой духовности («Накануне Нового года») или гибель России, но вместе с ней погибнет и все человечество («Последняя ночь», «Нищий, или сказка о мировом яйце», «Строитель»).
Эпическое время жизни народа, по мысли поэта, включает в себя и века истории, и жизнь прежних поколений, и миг любви, подвига, поступка конкретного человека: «Цикады час, кукушки год и ворона века». Эпическое время охватывает прошлое, настоящее и будущее: «Громада времени, вперед! Владимир, твой черед!»
[Там же, с. 84]. Непрерывно движущееся, необъятное и невозвратное время, отнимающее у человека годы, дни и часы жизни, не может не вызывать боль. Это боль утрат и боль расставания с собственной жизнью. Национальный мир Кузнецова трагичен. «Глухой эпический раскат <то есть бой часов> / Боль порождал в душе». Поэт предсказывает, что русскому народу предстоит много страдать и терпеть. Дух Святой «велит нам терпеть» [7, с. 24].
Автор – провидец, перед ним лежит эпический мир народной жизни во всем его пространственном размахе и глубине времен. Он хочет, чтобы это увидел и читатель, с которым он также чувствует свое единство и стремится в системе событий, характеров, метафор, символов, ассоциаций открыть ему тайну национального бытия.
Эпическое время стремится к вечности, но не индивидуума, а народа: «Пространство бросить не дано, / В котором мы живем. / Объято вечностью оно, / Как здание огнем» [6, с. 65].
Поэт, близкий к подлинно народной точке зрения, видит подводные камни на пути прогресса, изнаночную сторону внешне отрадного явления, не умом, так сердцем понимает, что же в конечном итоге пойдет на благо людям, а что – во вред. Характерно в этом отношении стихотворение Ю. Кузнецова «Атомная сказка». Сказке как символу духовного богатства народа угрожает опасность: бездуховное, утилитарное отношение к жизни, природе, искусству, национальному прошлому народа. Это стихотворение – предупреждение о бедствиях, которые поджидают человечество на путях НТР. Русского Ивана-дурака на путях социального, научного, культурологического рационализма ждет крах.
В стихах Ю. Кузнецова заключена мощная критика рационалистического сознания и в целом современной цивилизации («Атомная сказка»). Он поддерживает мысль И. Ильина «о сопротивлении злу силою» [2, с. 275].
На протяжении всей своей жизни поэт сражался с невидимым злом, «что стоит между миром и Богом». В «Возмездии» он прямо выражает веру в силу слова, в возможность заклятья стихом сил зла.
Ю. Кузнецов считал себя социальным поэтом. В его стихах ясно звучит тревога за судьбы планеты, за будущее России, за сохранность и жизненность национальных идеалов, за чистоту и красоту народной нравственности и эстетики. В стихотворении «Змеиные травы», написанном в годы застоя, возникает образ мчащегося поезда, везущего «мечты и проклятья земли», колеса которого «на змеиные спины сошли»: «Канул поезд в пустое пространство. / Но из Вас никому невдомек, / Если вдруг среди мысли раздастся / Неизвестно откуда – гудок». Ясно, что речь идет о паровозе, у которого «в коммуне остановка». Поэт предсказывает, что поезд, везущий нас к светлому коммунистическому будущему, исчезнет, но стремление к справедливому будущему и идеалам справедливости неуничтожимы.
В мире идет непрекращающаяся борьба добра и зла, борьба сатанинских сил с Богом. Понятия Неба, Солнца, Звезды несут в себе смыслы, связанные с понятиями Добра и Света. «Прошу у отчизны не хлеба, / А воли и ясного неба…» – заявляет поэт в стихотворении «Бывает у русского в жизни…». Звезда у него определяет судьбу, символизирует талант, счастье, удачу – то, что идет от Бога.
Ю. Кузнецов насущные проблемы века: социальные, политические, исторические, нравственные – преломил через призму своей веры. Христианские идеалы он облек в художественную форму. От ощущения присутствия в мире сатаны Ю. Кузнецов пришел к чувству Божьего промысла и явного наличия в мире Христа. У поэтов христианской религиозной ориентации понятие о будущем связано с представлениями о жизни «вечной, нескончаемой». В стихотворении Юрия Куз- нецова «Новое солнце» «Матерь Божья над Русью витает, / На клубок наши слезы мотает, / Слезы мертвых и слезы живых», а в «Видении Христа в урагане 12 июля 2001» он прямо признается: «В разломе туч, над главами державы / Я увидал иконный лик Христа. / Я грешник, и всего одно мгновенье / Он на меня со строгостью взирал. / Белесой мглой заволоклось виденье, / И ураган Москву переорал». В стихотворении «Невидимая точка» взгляд лирического героя устремлен в невидимую точку, и эта точка – Бог.
В творчестве Ю. Кузнецова значительное место занимают эсхатологические мотивы: «Господи Боже! Спаси и помилуй меня, / Хоть за минуту до высшего Судного Дня: / Я бы успел помолиться за всех и за вся, / Я бы успел пожалеть и оплакать себя…» Автор глубоко убежден в том, что Россия – это последняя надежда человечества. С ее уходом оно неизбежно деградирует и погибнет: «Я ухожу. С моим исчезновеньем / Мир рухнет в ад и станет привидением / – Вот что такое русское ничто». Русский религиозный философ Сергей Булгаков подчеркивал: «…вера есть дитя тайны, подвиг любви и свободы, она не должна убояться рассудочного абсурда, ибо здесь открывается вечная жизнь, безбрежность Божества» [1, с. 142] .
Поэтическая пенталогия Юрия Кузнецова о Христе «Детство Христа», «Юность Христа» и «Путь Христа», «Сошествие в ад» и «Рай», без всякого сомнения, одно из самых значительных явлений русской литературы на стыке веков, итоговое произведение как для русской литературы ХХ века, так и для творчества самого поэта. Ю. Кузнецов сконцентрировал в этом произведении все свои художественные находки. Это поэма-цикл, проникнутая сквозной идеей, связанная образом Христа, концепцией веры, бытия, Бога и судьбы человечества.
«Поэма Ю. Кузнецова “Путь Христа” является эпической в широком смысле этого слова. Больше того, ей присущи черты эпопейности, ибо она рисует переломный момент в жизни человечества, имеющий, в частности, колоссальное значение для национальной истории и духовного выбора русского народа в наше время. По сути, это национальная эпопея, хотя прямо о России в ней не говорится» [10, с. 93]. Будущее России и всего человечества поэт связывает с православной верой. В конечном счете Ю. Кузнецов рисует победу Христа над Сатаной: «Пал Сатана на колени и рухнул лицом, / Дым от него повалил и рассеялся злобно…» [7, с. 574]. С. Ю. Николаева, подчеркивая приверженность Ю. Кузнецова философии космизма, констатирует: «Высшая цель эволюции – полное преображение человека, у религиозных космистов это достижение Царства Божьего» [8, с. 71]. Это относится и к Юрию Кузнецову.
Образ Христа особенно близок автору еще и потому, что Ю. Кузнецов и сам ощущал в себе мессианское предназначение. Судя по его стихам, сатана и его дух не раз испытывал на прочность. Он внутренне ощущал историческую миссию, предназначенную ему Богом, которую и осуществил всей своей жизнью, всем своим творчеством.
Русская идея Юрия Кузнецова, говоря словами И. А. Ильина, «выражает русское историческое своеобразие и в то же время – русское историческое призвание» [2, с. 66]. Она воплощает то, в чем русский народ «прав перед лицом Божьим и самобытен среди всех других народов». Через живое созерцание бытия, мира и человека, природы и национальной истории Юрий Кузнецов указывает духовный путь русскому народу.
Список литературы Будущее в творческом сознании Юрия Кузнецова
- Булгаков С. Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. СПб.: Изд-во Олега
- Абышко, 2008. 640 с.
- Ильин И. А. Для русских. Избранное. Смоленск: Посох, 1995. 416 с.
- Кузнецов Ю. П. Край света -за первым углом. М.: Современник, 1976. 142 с.
- Кузнецов Ю. П. Крестный ход: стихотворения и поэмы. М.: СовА, 2003. 640 с.
- Кузнецов Ю. Стихотворения. М.: Эксмо, 2011. 480 с.
- Кузнецов Ю. П. Стихотворения и поэмы: в 5 т. Т. 3. 1973-1979. М.: Лит. Россия, 2011. 392 с.
- Кузнецов Ю. П. Стихотворения и поэмы: в 5 т. Т. 5. 1992-2003. М.: Лит. Россия, 2013. 720 с.
- Николаева С. Ю. Художественная философия Н. И. Тряпкина и Ю. П. Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 71-81.
- Редькин В. А., Николаева С. Ю. Традиции А. А. Блока в поэзии Ю. П. Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 68-77.
- Редькин В. А. Роль «Слова о Законе и Благодати» Илариона в поэме-цикле Ю. П. Кузнецова «Путь Христа»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 81-88.