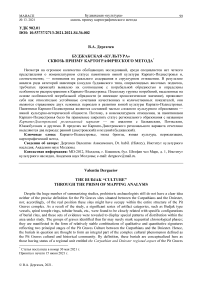Буджакская "культура" сквозь призму картографического метода
Автор: Дергачев В.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на огромное количество обобщающих исследований, среди специалистов нет четкого представления о номенклатурном статусе памятников ямной культуры Карпато-Поднестровья и, соответственно, - понимания их реального содержания в структурном отношении. В результате анализа ряда категорий инвентаря (сосудов буджакского типа, спиралевидных височных подвесок, трубчатых пронизей) выявлено их соотношение с погребальной обрядностью и определены особенности распространения в Карпато-Поднестровье. Поскольку группы погребений, выделенные на основе особенностей погребальной обрядности (и имеющие хронологическое значение), проявляют себя как относительно устойчивые сочетания качественных и количественных показателей, они являются отражением двух основных периодов в развитии ямной культуры Карпато-Поднестровья. Памятники Карпато-Поднестровья являются составной частью сложного культурного образования - ямной культурно-исторической общности. Поэтому, в номенклатурном отношении, за памятниками Карпато-Поднестровья было бы правильнее закрепить статус регионального образования с названием Карпато-Днестровский региональный вариант - по аналогии с Балканским, Потисским, Южнобугским и другими. В пределах же Карпато-Днестровского регионального варианта отчетливо выделяются два периода: ранний (днестровский) и поздний (буджакский).
Карпато-поднестровье, эпоха бронзы, ямная культура, периодизация, картографический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/14123599
IDR: 14123599 | УДК: 902.01
Текст научной статьи Буджакская "культура" сквозь призму картографического метода
Последние два десятилетия отчетливо обозначились очередным витком повышенного интереса, как со стороны восточно-европейских, так и западных специалистов в предыстории, к памятникам ямной культуры Карпато-Поднестровья. Ситуация вполне понятна и объяснима, если иметь ввиду: 1 — особенности расположения региона, тысячелетиями выступающего в роли своего рода плацдарма или полигона взаимодействия разнокультурных сообществ Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы; 2 — существенно возросшую источниковедческую базу по ямной культуре этого региона и сопредельных областей; 3 — быстрое и интенсивное накопление новых данных, поставляемых точными науками (С14, ДНК и пр.).
Все это отражено в появлении целого ряда, с одной стороны — обобщающих работ, посвященных особенностям ямной культуры Карпато-Поднестровья (Субботин 2000; 2003; Иванова 2001; 2001—2002; 2013a и др.), а с другой — еще более внушительного числа исследований общего (культурно-исторического, интерпретационного) плана (Иванова 2012; 2013b; 2016: Ivanova 2013; Ivanova,Toschev 2015; Klochko et al. 2015; Клейн 2007; 2016; 2017; Kaiser 2019 и мн. др.). «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1: 31).
Парадоксально, однако, вот что. Вопреки большому числу опубликованных исследований до настоящего времени у специалистов нет четкого представления о самом номенклатурном статусе памятников ямной культуры Карпато-Поднестровья, и соответственно — понимания их реального содержания в структурном отношении. Иначе говоря, получается, что, не разобравшись (с источниковедческой точки зрения) во внутреннем содержании изучаемого явления, многие авторы впускаются в обширные общеисторические интерпретации, дезинформируя своих коллег (не владеющих в полной мере материалами), провоцируя тем сам нескончаемые бесплодные дискуссии.
Объясню вкратце ситуацию. К концу 60-х — началу 70-х гг. прошлого века, обобщив известные к тому времени для юга Восточной Европы источники, Н.Я. Мерперт впервые очертил общие пространственные границы ямных памятников и выделил их в особую культурно-историческую область (КИО), включающей девять относительно самостоятельных территориальных (локальных) вариантов, из которых памятники Карпато-Поднестровья были обозначены как представляющие юго-западный вариант этой области или общности (Мерперт 1968: 14—15, 38—39; 1974: 12—14).
Спустя два десятилетия, ознаменовавшихся интенсивной полевой деятельностью (приведшей к накоплению новых источников), вышла в свет работа Е.В. Ярового, представляющая первое целенаправленное монографическое исследование, посвященное осмыслению погребальной обрядности носителей ямной культуры рассматриваемого региона (Яровой 1985). Благодаря максимальному охвату известных материалов, свободному владению статистико-комбинаторными методами анализа данных, автору впервые удалось аргументировано обосновать вывод о наличии в рамках этой культуры двух относительно
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода самостоятельных хронологических горизонтов или периода: раннего — характеризующегося преимущественно скорченными погребениями на спине с поднятыми в коленях ногами (группа I) и позднего — отличающегося преобладанием скорченного положения на спине, с большим или меньшим наклоном на один из боков (группа II) и отчасти и сильно скорченными «лево-» или «правобочными» захоронениями (группа III) (Яровой 1985: 44—49, 109).
Буквально через год после выхода работы Е.В. Ярового была издана наша собственная монография, посвященная обшей характеристике всех культур эпохи бронзы Молдавии, один из небольших разделов которой был посвящен самостоятельному анализу и характеристике ямной культуры (Дергачев 1986: 26—87). Располагая практически тем же объемом материалов (порядка 1200—1300 курганных комплексов), основываясь на собственных методических принципах анализа и осмысления данных, я пришел к весьма неожиданным результатам. Они, на мой взгляд, раскрывают внутреннюю периодизацию ямной культуры не только с точки зрения особенностей погребальной обрядности, но с учетом других конкретных категорий материалов, образующих определенные устойчивые сочетания. А это — условие, методологически гарантирующее объективность любых выделяемых структурных образований. Соответственно этому требованию, наши выводы были категоричными.
Ямная культура Карпато-Поднестровья вбирает в себя два относительно самостоятельных территориально-хронологических варианта или горизонта. Один из них, обозначенный нами как днестровский вариант, представляет ранний период развития этой культуры, распространяется на все пространство от левобережья Днестра до Восточных Карпат, отчасти включая низовья Дуная. Его характерные составляющие элементы: скорченное положение погребенных на спине с поднятыми в коленях ногами (распавшихся обычно в левую (или правую) сторону или ромбом), сопровождающиеся относительно редким инвентарем: спиралевидными височными подвесками из серебра или меди, сосудами шаровидных форм с двумя ленточными ручками на тулове, каменными антропоморфными стелами, деталями от разобранных деревянных повозок.
Второй из выделенных нами вариантов, получивший название «буджакский», представляет поздний период этой культуры. В отличие от первого, комплексы этого периода характерны главным образом для степной зоны Днестровско-Прутского междуречья. Его отличительные особенности: преимущественно скорченное положение погребенных на спине с поворотом на один из боков (при строго определенном положение разных рук) — реже погребения в сильно скорченном положении на боку, сочетающиеся с достаточно обильным и разнообразным инвентарем, в состав которого входят: разнотипные сосуды, составные браслеты из свернутых в трубку тонких медных пластин, клиновидные кремневые топоры—тесла, костяные наконечники стрел (Дергачев 1986: 74—87).
Предложенные Е.В. Яровым и автором этих строк разработки касательно хронологических особенностей проявления погребальной обрядности сразу же привлекли к себе внимание коллег, в особенности — молодых, начинающих «курганщиков», обеспечив их диагностическими критериями многочисленных новооткрытых ямных погребений. Именно под влиянием оговоренных работ в 80—90-х гг. прошлого века в обиход вошли два самостоятельных термина в обозначении разновременных ямных погребений Карпато-Поднестровья: «древне-» или просто «ямные» погребения, под которыми обычно подразумеваются скорченные погребения на спине с поднятыми в коленях ногами, и «позднеямные», под которыми имеются в виду скорченные костяки с поворотом на один из боков или костяки в сильно скорченном положении. И эти термины широко используются до настоящего времени в работах публикационного характера.
МАИАСП № 13. 2021
Иначе сложилась судьба предложенного нами разделения ямной культуры на два самостоятельных хронологических варианта — днестровского и буджакского, отличающихся не только по обрядовым показателям, но и по целому комплексу других категорий материалов. Это предложение оговаривалось, цитировалось, но, по сути, оно так и осталось непонятым и невостребованным, и, со временем, приобрело сугубо ритуальный смысл, дескать — есть такое мнение в историографии.
Восприятие ямной культуры Карпато-Поднестровья еще больше деформировалось за последние 20 лет с приходом в эту тематику энергичной и плодовитой С.В. Ивановой, чьи исследования буквально захлестнули многочисленные археологические издания.
По мнению С.В. Ивановой, ямные памятники Северо-Западного Причерноморья представляют особую, самостоятельную — буджакскую культуру (« в рамках ямной КИО »), характерную для всего Карпато-Поднестровья (Иванова 2013a: 216). Хотя одновременно с этим, она предлагала совершенно другие — причем самые разные трактовки (Иванова 2014), на что обращал внимание Л.С. Клейн (2016: 6), и что, по нашему мнению, выдает ее неопределенность в этом вопросе.
С.В. Иванова считает, что буджакская «культура», эволюционировавшая на протяжении порядка 900 лет (3100/3000— 2000/2100 BCE), представляет собой относительно монотонное культурное явление, практикующее один и тот же обряд погребения с обозначенной выше триадой (на спине с поднятыми в коленях ногами, скорчено с поворотом и сильно скорчено на боку). Благодаря длительному развитию и внешним влияниям, эта культура обогатилась своеобразным комплексом материалов, в большей или меньшей степени, характерных для всего ее существования.
Оценивая реальное состояние проблемы изучения культуры, автор признает, что « вопросы внутренней хронологии памятников буджакской культуры слабо разработаны на сегодняшний день ». Однако же, понимая алогичность представления о монотонности ее почти тысячелетнего развития (сопровождавшегося сменой целого ряда культур и культурных блоков), автор намечает три возможных этапа в ее развитии: ранний этап, развитый и заключительная фаза. К сожалению, как и во многих других случаях, обоснование выделенных этапов сводится к многословному, на наш взгляд, жонглированию одними и теми же признаками и показателями, преимущественно касающихся все той же погребальной обрядности. В результате, содержание выделенных этапов остается расплывчатым и неконкретным (Иванова 2013a: 219—223).
А в недавней работе, автор уже открыто признает наличие в рамках этой культуры двух этапов: « ранний (3100—2600/2500 BCE) и поздний (2600/2500—2200 BCE)» (Iванова 2020: 182). Но это признание, опять-таки, носит чисто декларативный характер, поскольку никаких разъяснений по этому поводу автор так и не дает. Думаю, это говорит о многом.
Перейдем же от описания сложившейся историографической ситуации к сути вопроса, предусматривающего освещение двух принципиальных моментов в понимании ямной культуры рассматриваемого региона: раскрытию внутренней хронологии или периодизации этой культуры, а вместе с тем и определению ее номенклатурного статуса. Для этого мы воспользуемся анализом всего трех типов изделий, представляющих в одном случае керамику, а в другом — два типа украшений, проанализированных через призму картографического метода.
В связи с последним — картографическим методом, хотелось бы отметить следующее. Картографирование — один из базовых методов археологического инструментария. Нет диссертации или сколько-нибудь значимой работы, чтобы «картографической метод» не был бы включен в раздел, посвященный методике исследования. Однако на практике
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода использование этого метода обычно сводится к одной—двум иллюстрациям, призванных отразить локализацию памятников той или иной культуры или — чаще определенной категории или типа изделий, и не более того. Привлечение же этого метода для решения более сложных задач, ориентированных на раскрытие внутренних составляющих элементов сложных структурных образований, подобно ямной культуре (что на уровне КИО, что на уровне ее Карпато-Днестровского варианта), пока мне не известны. Вот и продемонстрируем возможности этого метода применительно к интересующей нас проблеме.
Для начала обратимся к одной из форм сосудов, за которыми еще с момента их первых публикаций (Шмаглий, Черняков 1970), прочно закрепилось название — сосуды «буджакского типа». Обращение к сосудам этого типа оправдано двумя обстоятельствами. Во-первых, при общеизвестной редкости керамики в ямных комплексах, эта форма занимает одно из лидирующих мест. На данный момент, для порядка трех тысяч комплексов ямной культуры региона, нам известно чуть более 80 (археологически целых форм) экземпляров этих сосудов.
Второе обстоятельство — это одна из наиболее своеобразных, оригинальных форм, начисто отсутствующая как в предшествующих или последующих культурах данного региона, так и в одновременных культурах сопредельных областей. И именно эти обстоятельства побудили С.В. Иванову (и не только) обозначить эти сосуды как своего рода «визитную карточку», идентифицирующую «буджакскую культуру» в ее понимании. Остается лишь проверить в какой степени эта визитная карточка соответствует данной «культуре».
На рис. 1 мы постарались отобразить все разнообразие известных ныне сосудов буджакского типа. Как следует из этой иллюстрации, речь идет о чашевидных или баночных сосудах в большинстве своем конической — изредка подцилиндрической формы (рис. 1: 7, 23 ) с более или менее закругленным туловом. За одним исключением (рис. 1: 10 ), все они плоскодонные, притом, что около половины из них имеют отчетливо выделенный кольцевидный поддон (рис. 1: 1—5, 7—8, 12—13, 19—21, 26 ). Одним из обязательных морфологических элементов этих сосудов выступают, расположенные в верхней части тулова, ручки—налепы (одинарные или сдвоенные) с вертикальными отверстиями. Порядка двух третей этих сосудов орнаментировано оттисками шнура (изредка в сочетании с круглыми наколами), образующими сложные геометрические (рис. 1: 1—11 ) или простые линейные композиции (рис. 1: 12—16 ). В отдельных случаях этот орнамент был нанесен и на днища сосудов (рис. 1: 2 ).
С метрической точки зрения (рис. 2) эти сосуды проявляют себя как относительно компактная «гомогенная» группа изделий высотой от 8 до 18 см, при максимальном диаметре от 10 до 20 см. Любопытно, что если орнаментированные сосуды показывают сбалансированные пропорции (высота сосудов приблизительно равна их наибольшему диаметру), то неорнаментированные сосуды более приземистые (диаметр несколько больше высоты). Это свойство отчетливо проступает исходя из расположения их на точечной гистограмме (рис. 2) что, возможно, отражает разнообразие функций: орнаментированные — это исключительно парадные формы, вторые — сугубо утилитарные.
Помимо сосудов «стандартных» форм и размеров, изредка встречаются их воспроизведение в миниатюре (рис. 1: 29—30 ).
Обратимся к распространению этих сосудов. На приведенной карте (рис. 3) маленькими точками обозначены все местонахождения комплексов ямной культуры Карпато-Поднестровья и внешние границы их ареала непрерывной линией. Внутри ареала специальными знаками внесены пронумерованные местонахождения сосудов буджакского типа.
МАИАСП № 13. 2021
Что выясняется? Все местонахождения интересующих нас сосудов приходятся исключительно на южную — степную зону ареала культуры, с наибольшей концентрацией в Нижнем Поднестровье и приморской части Днестровско-Прутского междуречья (рис. 3, прерывистая линия). Не считая двух местонахождений, занимающих крайне периферийные позиции в этой зоне (Мокра (№ 1) и Брэвичень (№ 28)), для остальной части ареала ямных памятников мы не располагаем ни одним таким сосудом.
Так что же получается? Сосуды, олицетворяющие саму буджакскую «культуру», на деле характерны только для степной ее зоны, исторически известной как Буджакская степь. Это обстоятельство оправдывает название, присвоенное нашим сосудам, но никак не всей «буджакской культуре» по С.В. Ивановой, распространяющей ее на все Карпато-Поднестровье (а может быть и шире?).
С точки зрения логики картографии все просто. Частичное или полное территориальное совпадение двух изучаемых явлений может означать только одно — эти явления разновременные, или иными словами — зона локализации буджакских сосудов в соотношении с общим ареалом ямной культуры Карпато-Поднестровья составляет некий хронологический срез. Остается лишь определить хронологическую направленность развития этих явлений, т.е. какое из этих явлений более раннее или наоборот — более позднее. Однако, прежде этого, вернемся к нашим сосудам и рассмотрим их контекст — т.е. особенности погребального обряда, характерные для комплексов, в которых они встречаются.
На данный момент мы располагаем данными о 67 комплексах с четко определяемыми позами погребенных, которые сопровождались сосудами буджакского типа. Для наглядности приводим серию из половины известных случаев, отражающую все имеющие вариации — рис. 41.
Оказывается, что за исключением трех случаев, эти сосуды сопровождают погребенных, уложенных на спине с поворотом на один из боков (далее, для краткости — умеренно скорченных). Статистика такова: в 38 (55,9%) случаях это «левобочные» погребения (рис. 4: 1—18 ), из которых только два в сильно скорченном положении (Ясски 2/5 и Приморское 1/34) рис. 4: 18 ), а в 26 (38,2%) случаях — «правобочные» (рис. 4: 19—32 ), из которых два в сильно скорченном положении (Слободзея 1/25 и Рэскоеций Ной 2/12) (рис. 4: 31—32 ).
Исключение составляют два захоронения (2,9%), в которых сосуды сопровождали погребенных, скорченных на спине с вытянутыми вдоль тела руками и, вероятнее всего, с поднятыми в коленях ногами, распавшихся влево (рис. 4: 33—34 ), а также два (2,9%) случая с расчлененными костяками (рис. 4: 35—36 ).
Таким образом, выясняется, что сосуды типа буджак (за единичными исключениями) характерны только для погребенных, уложенных в скорченном положении с большим или меньшим поворотом на один из боков (левый или правый). Показательно, что оба варианта поз дают достаточно близкие количественные показатели (38 к 26). Более того, близко сходной является и их ориентация, с одной стороны — в северном диапазоне (от 310° до 75°), во втором — юго-западном (от 135˚ до 285˚) (рис. 5).
Из установленной взаимосвязи получается, что степная зона, в отличие от остальной части ареала ямной культуры региона, отличается не только своеобразной керамикой (сосудами типа буджак), но и своим особым погребальным обрядом (умеренно и реже — сильно скорченными погребениями). Соответственно возникает очередной вопрос. Как же
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода тогда понимать место погребений с захоронениями на спине с поднятыми в коленях ногами, которые сполна имеются как в степной, так и лесостепной зонах региона? Они что — представляют другую культуру?
И здесь мы снова выходим на уже сформулированное выше предположение/вывод — скорченные погребения с буджакскими сосудами и скорченные погребения на спине с поднятыми ногами (без подобных сосудов) различны во времени, т.е. представляют два разных периода или этапа одной и той же культуры, по крайней мере, в степной буджакской зоне, что полностью противоречит предложенной С.В. Ивановой трактовке этой культуры и, на наш взгляд, лишают ее всяких оснований.
Вернемся к вопросу возможной хронологической последовательности намеченных разновременных хронологических вариантов. Следуя логике картографического метода, для раскрытия хронологической направленности развития двух изучаемых явлений или структур, достаточно определится с хронологической позицией хотя бы одной из них (более ранней или более поздней). Поскольку определившись с хронологией одной из них, мы автоматически получим сведения о хронологической позиции второй, поскольку третьего здесь не дано.
Для решения этого вопроса, учитывая особенности источниковедческой базы, мы обратимся к тем же материалам, т.е. к данным уже известных для степной — буджакской группы. Аргументов в пользу того, что эта группа составляет поздний горизонт ямной культуры, не только степного, но и всего Карпато-Поднестровья — предостаточно.
Из уже упомянутых работ, посвященных рассмотрению и детальной классификации погребальной обрядности ямной культуры (Мерперт 1974; Яровой 1985; Дергачев 1986), достоверно и неопровержимо известно, что обряд погребения скорченно на спине с поднятыми в коленях ногами возник на востоке. А в Карпато-Поднестровье он появился лишь с проникновением этих племен в этот регион, распространившись как в степной, так и лесостепной зонах. Поскольку буджакская группа демонстрирует явное преобладание скорченного «лево-» или «правобочного» обряда погребения, из вышесказанного однозначно вытекают два вывода. Во-первых, обряд погребения скорченно на боку является относительно более поздним по отношению к погребениям на спине с поднятыми в коленях ногами, а, во-вторых, буджакские памятники, соответственно более поздние по отношению к остальным памятникам как степной, так и лесостепной зон.
Другой принципиальный аргумент. Погребения со скорченными костяками, за редкими исключениями, не представлены основными — центральными погребениями и, как правило, впущены в насыпи с основными скорченными на спине погребениями. Если же эти насыпи и содержат основные скорченные на боку погребения, они не дают впускных погребений, скорченных на спине (разумеется, за редкими исключениями) или же вообще не содержат никаких впускных захоронений.
Приведем конкретные примеры. На 74 кургана с 80 погребениями (содержащих 82 сосуда буджакского типа), только в четырех курганах погребения с этими сосудами являются основными — центральными. Во всех остальных случаях они впущены в более древние насыпи.
Но что при этом примечательно. Курган 1 у с. Григорьевка (рис. 6: А) с основным скорченным погребением и сосудом буджакского типа содержал еще шесть впускных ямных захоронений (расположенных по кругу) совершенных по тому же обряду что и центральное — т.е. скорченно на боку. И среди них — ни одного скорченного на спине с поднятыми в коленях ногами. А три других кургана могильника Маяки IV (рис. 6: B—D) c основными —
МАИАСП № 13. 2021
центральными захоронениями и сосудами буджакого типа не содержат ни одного ямного впускного погребения, что явно говорит о кратковременности их использования.
Важным аргументом в пользу поздней даты буджакских комплексов представляется планиграфия или, иначе говоря — горизонтальная стратиграфия, курганов, содержащих по три—четыре насыпи и включающих по 20—30, а порой и более разновременных и разнокультурных захоронений, в особенности в тех случаях, когда их вертикальная стратиграфия не была зафиксирована в процессе раскопок.
Как хорошо известно, носители и ямной, и катакомбной культур (хотя не только) практиковали сооружение собственных курганов. Но, наряду с этим, они очень часто впускали погребения своих умерших и в уже существующие курганы своих предшественников с более или менее значительной досыпкой. Погребения впускали в центральные части насыпей, но, чаще всего, по их краям по определенному плану или принципу — в основном, по дуге. Расстояния же от центра напрямую зависело от размеров кургана на момент погребения. Соответственно, расположение по дуге разновременных захоронений одной и той же долго развивающейся культуры, или в соотношении, скажем с последующими ей во времени комплексами катакомбной культуры, неизбежно должны отражать их относительную хронологию. Это что-то наподобие годичных колец, фиксирующих цикличный прирост тканей дерева (и, соответственно, возраст), только в этом случае разность во времени может быть от недели—месяца до нескольких десятилетии или даже столетий.
Приведем лишь четыре, на наш взгляд, наглядных примера (рис. 7)2, в подборе которых мы руководствовались несколькими условиями. Это должны быть: 1 —долговременные курганы с несколькими насыпями; 2 — курганы, содержащие скорченные погребения на спине и (с высокой долей вероятности) поднятыми в коленях ногами, а также погребения буджакской группы, т.е. скорченные с поворотом на боку и сочетающиеся или с уже известной нам формой сосудов, или другими изделиям, о которых речь пойдет ниже (украшениями, костяными наконечниками стрел, кремневыми топорами—теслами и пр.).
Курган 17 у с. Никольское (рис. 7: A). Его основное погребение (42) — ямное, на спине с поднятыми коленями. Содержит еще четыре впускных подобных захоронений (25, 28, 44 и 47) и четыре буджакского типа (7, 43, 45—46), из которых одно с сосудом типа буджак (рис. 7: A: 2 — 6 ). Первые четыре погребения впущены в пределах первой, зафиксированной при раскопках, насыпи, вторые — за ее пределами (рис. 7: А: 1 ). Вывод напрашивается: последние, буджакские — более поздние чем первые, совершенные на спине с поднятыми в коленях ногами.
Курган 1 у с. Глубокое ( рис. 7: B ). Первичное погребение (16) — усатовское. Включает 17 ямных захоронений, из которых: 6 — на спине с поднятыми в коленях ногами (5, 7, 9, 14, 21, 26), 7 — буджакского типа (11—13, 22—25) и 4 — кенотафа или типологически неопределенные (6, 15, 19—20). Из первой группы — скорченных на спине, три впущены в пределы усатовского кромлеха (5, 9, 14), а три — к востоку, в непосредственной близости от кромлеха. В отличие от них, захоронения буджакского типа: в одном случае (22) впущено в пределы кромлеха, а в шести других — расположено в западной половине кургана по дуге (12, 13, 23—24) и в двух случаях несколько обособлено (11, 25). Если от центра кургана прочертить две окружности, соответствующие планировке этих погребений видно, что курган, помимо исходной насыпи, окруженной каменным кромлехом, включал, по крайней
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода мере, еще две насыпи (зафиксированные в профиле кургана, но не отраженные в горизонтальном плане). В ближайшей по отношению к центру насыпи — три захоронения на спине (7, 21 и 26) и одно буджакского типа (13), а в периферийном — одно на спине (6) и пять буджакских (11, 12, 23—25) (рис. 7: B: 1). Показательно то, что в числе последних — погребение, сопровождающееся типичным буджакским сосудом и составным медным браслетом, которые рассмотрим ниже (рис. 7: B: 2—11). Учитывая крайне отдаленное от центра положение большинства буджакских захоронений по сравнению с захоронениями на спине с поднятыми коленями, получается, что первые относительно более поздние по времени, нежели вторые.
Курган 9 у с. Нерушай 9 ( рис. 7: С ). По полевым наблюдениям состоял из четырех насыпей, первая из которых связана с основным усатовским захоронением (82). Включал, по крайней мере, 12 ямных захоронений, из которых 6 — скорченных на спине с поднятыми в коленях ногами (9, 16, 31—32, 37, 60) и 6 — скорченных на спине с поворотом на один из боков (включая два с типично буджакскими сосудами (56, 74, 76, 81, 84—85))3. К сожалению, кроме погребений с сосудами, остальные погребения буджакских захоронений не были проиллюстрированы в публикации (рис. 7: С: 2—6 ). Как следует из плана кургана (рис. 7: С: 1 ), погребения на спине с поднятыми коленями приходятся на первую и вторую насыпь кургана, а все буджакские захоронения занимают почти всю западную полуокружность в пределах четвертой насыпи. Вывод: они более поздние по времени, чем первые.
Особый интерес вызывает курган 2 у с. Холмское с хорошо документированной вертикальной стратиграфией и содержащий репрезентативную серию как ямных, так и катакомбных погребений (рис. 7: D). К сожалению, иллюстрация основного — первичного погребения кургана отсутствует. Согласно отчету и описанию в имеющейся публикации (Черняков и др. 1986: 80—81), захороненный якобы лежал «в скорченном положении на спине... Ноги, согнутые коленями вверх, упали влево ». Однако из описания положения рук — « Правая рука согнута в локте и кистью положена на левую часть тела, левая вытянута вдоль туловища» легко реконструируется, что фактически, речь идет о типично буджакской позе — на спине с разворотом на левый бок. Соответственно, все остальные погребения ямной культуры кургана также относятся к буджакскому типу, что полностью подтверждается позами погребенных и их инвентарем (формы сосудов, медные трубчатые пронизи, костяной наконечник стрелы) (рис. 7: D: 2 — 13, 15 — 18 ).
Главное здесь — соотношение буджакских погребений с катакомбными, которые, как следует из горизонтального плана (рис. 7: D: 1 ), были впущены по одной и той же или близкой дуге в южной периферии кургана и, что само по себе предполагает их близость во времени или даже частичную одновременность. И лучшее подтверждение тому — прямая стратиграфия зафиксированная для погребения ямной культуры 17, перекрытого катакомбным захоронением 24. Привожу описание ситуации: « Погребение 24... частично перерезало его [погребения 17 — прим. автора, В. Д.] камеру, оказавшись чуть выше ее пола. Во время совершения погребения 24 деревянное перекрытие погребальной камеры 17 еще не успело сгнить, а камера — заполниться землей. Это позволило частично использовать пустоту для нового погребения 24. Рухнувшее позднее деревянные части перекрытия погребения 17 упали на костяк погребения 24 » (Черняков и др. 1986: 77). Таким образом, частичное сосуществование носителей позднеямных памятников с носителями катакомбной культуры не оставляет сомнений. А это, в свою очередь, подтверждает гипотезу о том, что
МАИАСП № 13. 2021
буджакские памятники по отношению к ямным комплексам с обрядом погребения скорченно на спине являются позднейшими.
Два других случая документирующих частичное сосуществование носителей буджакских и катакомбных памятников, — впускное захоронение 31 кургана 17 у с. Вишневое, совершенное в «классической» катакомбе с погребенным в типично буджакской позе, с типично буджакским сосудом ( рис. 8: 1 ). Второй случай — погребение 10 кургана 2 у с. Беляевка с вытянутым погребенным в не совсем типичной катакомбе (с точки зрения сооружения), во входной шахте и камере которого находились фрагменты одного и того же сосуда буджакского типа (рис. 8: 2 ).
В качестве косвенного аргумента в пользу позднего времени буджакских памятников могут послужить и два сосуда, обнаруженных в курганах низовьев Южного Буга в погребениях со скорченными на боку костяками (рис. 8: 3 — 4 ) по обряду, который, согласно разработкам О.Г. Шапошниковой, характерен для двух позднейших (III и IV) обрядовых групп ямной культуры Южнобугского варианта (Шапошникова и др. 1986: 51).
Если резюмировать выводы о территориальном и стратиграфическим проявлениям погребений с сосудами буджакского типа, напрашивается единственное заключение — эти памятники в сравнение с комплексами со скорченными на спине и поднятыми в коленях ногами являются более поздними и представляют особый хронологический вариант ямной культуры степной зоны Карпато-Поднестровья.
А сейчас для верификации этой гипотезы обратимся к другой категории материалов — украшениям. Речь идет о двух наиболее распространенных типах украшений ямной культуры рассматриваемого региона: спиралевидных височных подвесках и составных браслетах (рис. 9: А).
Височные подвески. По форме подразделяются на два разных типа: спиралевидных в один—полтора витка до четырех—пяти витков (рис. 9: А: 1 — 8 ) и рогаликообразных в виде несомкнутого кольца, несколько утолщенного в средней части (рис. 9: А: 9 — 11 ). Первые численно доминируют и чаще всего изготовлены из серебра, реже из меди и, изредка — из золота. Их диаметр колеблется от 0,5 до 1,2—2 см, при диаметре проволоки от 1 до 3—4 мм. Рогаликообразные подвески встречаются редко, обычно изготовлены из серебра, их диаметр составляет около одного см.
Для Карпато-Поднестровья нам известно 96 комплексов, содержащих по одной, чаще — двум, а иногда и по три-пять экземпляра. Соответственно их общее число составляет около 150 экземпляров, из которых 137 — спиралевидных и 11 рогаликообразных. Неполная расшифровка местонахождений этих изделий имеется в работе Л.В. Субботина (2003: 34.). Еще десять комплексов известно для Валахии, в жудеце Прахова (севернее Бухареста) с десятью спиралевидными и пятью рогаликообразными подвесками (рис. 10: 8—106 ). Далее на запад в курганах Правобережья Дуная эти подвески встречаются редко, но хорошо представлены в известном грунтовом могильнике у г. Зимнича жудеца Телеорман (рис. 10: 107—109 ).
Как правило, эти подвески находят у височных костей, а характерны подвески преимущественно для детских захоронений, хотя присутствуют и в мужских, и в женских.
Обратимся к географии и контексту. Как следует из рис. 10, височные подвески «разбросаны» по всему ареалу ямной культуры Карпато-Поднестровья с заметными концентрациями в степной Причерноморской зоне и в пределах Нижнего и Среднего Днестра и Прута, отчасти в Нижнем Подунавье. Проще говоря, речь идет о всем пространстве, для которого зафиксировано наличие памятников ямной культуры (рис. 10: мелкие точки).
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода
А что же контекст? Он отражен в двух иллюстрациях, в которых включены 47 комплекса (из 109), с уверенно определенными позициями погребенных и содержащих височные подвески (рис. 11 и 12).
Первое на что следует обратить внимание в этих иллюстрациях — редкость сопутствующего височным подвескам инвентаря. Это всего шесть—семь сосудов (рис. 11: 4 , 14, 20—21 , 12: 1, 10, 16 ), четыре—пять единиц орудий труда, оружия или украшений (рис. 11: 15, 20 ; рис. 12: 9, 15 ) и в двух случаях — колеса от деревянных повозок (рис. 11: 21—22 ). И это все — на 47 погребений.
Главное же здесь другое — соотношение подвесок с особенностями погребальной обрядности. А статистика для 47 погребений Карпато-Поднестровья (без Валахии) такова: в 34 случаях (72,3%) височные подвески сопровождали погребенных в скорченном положении с поднятыми в коленях ногами (рис. 11: 1—22 , 12: 2—3, 5 ), в 8 (17,0%) случаях — скорченных на спине с поворотом на правый бок или в сильно скорченном положении (рис. 11: 23—27 ) и в 5 (10,6%) случаях — скорченно на левом боку (рис. 11: 28—30 , 12: 4 ). Таким образом, выясняется что, если рассмотренные ранее сосуды буджакского типа сочетаются с погребенными уложенными скорченно на боку (94,1%) и только в двух случаях на спине с поднятыми в коленях ногами (2,9%), то височные подвески демонстрируют противоположное соотношение — 27,6% — скорченно на боку, 72,3% — скорченно на спине с поднятыми коленями.
Составные браслеты. Отличаются простой формой в виде округлых трубочек или несколько уплощенных обоймочек или скобок, свернутых внахлест из тонких медных пластин. Первые, очевидно, свободно нанизывались на шнурки, вторые, по-видимому — закреплялись на шнурочках либо ремешках неподвижно. Их длина варьирует от 0,5 до 5—6 см при диаметре от 0,3 до 0,6 см (рис. 9: В: 1 — 2, 4 — 5 ), а в случае уплощенных их сечение составляет приблизительно 0,2 × 0,5—1 см (рис. 9: В: 3 ).
Для Карпато-Поднестровья известно 63 комплекса (рис. 13: 1—63 ), содержащим от одной до шести—семи подобных пронизей. Соответственно, их общее число насчитывает 128 экземпляров. Как и в случае с височными подвесками, неполный перечень местонахождений этих изделий имеется в работе Л.В. Субботина (2003: 33—34). Помимо этого, еще пять комплексов с подобными изделиями известны для курганов Праховской группы (рис. 13: 64—68 ).
В отличие от спиралевидных подвесок, составные браслеты носились на запястьях обеих рук, приблизительно в равном соотношении, и, похоже, встречаются во всех трех половозрастных группах: детских, женских и мужских захоронениях. Хотя, из-за недостаточности антропологических определений последнее утверждение еще нуждается в уточнении. Только в единичных случаях трубочки или обоймочки найдены в области черепа, вероятно использовавшихся в качестве подвесок или в составе нагрудных украшений.
Но что же выясняется в пространственном плане? В отличие от височных подвесок (рис. 10), составные браслеты, за двумя—тремя исключениями (рис. 13: 1, 54—55 ), характерны только для степной зоны. И в этом отношении их ареал полностью совпадает с ареалом распространения сосудов буджакского типа (рис. 3).
Сходство, с одной стороны с буджакскими сосудами, а с другой — различие со спиралевидными подвесками отчетливо обнаруживаются и по контекстуальным признакам, как с точки зрения сопутствующего инвентаря, так и по погребальной обрядности.
На рис. 14 представлены иллюстрации 39 (из 64) комплексов, содержащих медные пронизи и другой инвентарь, происходящий из погребений с надежно документированными позами захороненных.
110 В.А. Дергачев МАИАСП № 13. 2021
Сравнивая эти данные с данными по спиралевидным подвескам, легко заметить существенную разницу по численности и категориям инвентаря. Как уже отмечалось, комплексы с височными подвесками содержат единичные сосуды, оружие или орудия труда и детали повозок (рис. 11—12). Комплексы с медными пронизями чуть ли в каждом втором случае сопровождаются разнообразной керамической посудой (рис. 14). При этом, одной из ведущих форм здесь явно выступают сосуды буджакского типа (рис. 14: 3, 5, 10, 20 ). Чаще встречается оружие и орудия труда, из которых особого внимания заслуживают кремневые топоры—тесла и костяной наконечник стрелы (рис. 14: 3, 9 ).
Различия между сопоставляемыми группами по погребальной обрядности также ярко выражены. Как мы уже знаем, сосуды буджакского типа, как правило, сопровождают погребенных в скорченном положении на правом или левом боку — 38 + 26 (94,1%) и только в двух (2,9%) случаях — погребенных на спине с поднятыми в коленях ногами. Близкие показатели и у комплексов с медными пронизями, которые сочетаются со скорченными «лево-» или «правобочными» (24 + 11) в 35 (81,4%) захоронениях и лишь 8 раз (18,6%) с погребенными на спине с поднятыми коленями.
Другое дело — соотношение этих двух групп с погребениями, содержащими височные подвески. В 34 (72,3%) случаях они сопровождают захороненных на спине с поднятыми в коленях ногами и только в 11 (27,7%) — погребенных в скорченном на боку положении. Для наглядности описанная ситуация графически отражена на рис. 15.
Из изложенного логически вытекает один единственный вывод — комплексы с буджакскими сосудами вместе с комплексами с медными пронизями представляют особую, обособленную от комплексов с височными подвесками, группу. А суть этой разницы можно объяснить только за счет их относительной асинхронности; разновременность, при которой первые являются более поздними, а последние — более ранними.
И здесь мы можем привести очередные новые аргументы в пользу подобной трактовки. Один из главных аргументов связан с историей происхождения и распространения самих спиралевидных височных подвесок.
Следуя исследованиям T. Штелльнера (Stöllner 2016), мода на золотые спиральные подвески зародилась еще в IV тыс. до н.э. в Закавказье в ареале куро-араксской культуры (рис. 16). На протяжении второй половины того же тысячелетия в разных вариантах кольцевидные и спиралевидные подвески появляются в майкопской культуре Северного Кавказа, в которой они известны по многочисленным и разнообразным вариантам и изготовлены преимущественно из золота (рис. 17: А: 1—19 , В: 1—21 ).
С распространением майкопских влияний на север и северо-запад эти украшения проникают в ареал древнеямной культуры, что засвидетельствовано курганным погребением у с. Павловское, в котором серебряная спиралевидная подвеска найдена совместно с топором майкопского типа (Синюк 1983: 25, рис. 8: 7, 10 ).
Однако более всего эти изделия (преимущественно из серебра) распространяются на западе, где они широко представлены в памятниках типа Койсуг-Константиновка (рис. 17: А: 20—33 , В: 24—37 ), животиловского и постмариупольского типов (рис. 17: А: 34—42 , В: 38—48 ) и, в особенности, в памятниках позднего Триполья типа Усатово и Гординешты (рис. 17: А: 43—54 , В: 49—58 ).
Трудно сказать, привнесли ли ямные племена, проникнув в пределы Карпато-Поднестровья, эти украшения из степной зоны, или же они заимствовали их у местного усатовского населения на этапе их вытеснения или в результате ассимиляции? Факт, однако, остается фактом — для рассматриваемого региона это одни из наиболее древних височных подвесок.
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода
Иначе оцениваются хронологические позиции трубчатых пронизей к составным браслетам. Да, отдельные трубчатые пронизи или скобковидные обоймочки из тонких медных пластин известны для разных культур начиная с раннего энеолита (к примеру составной браслет из Кэрбунского клада) и в более поздних культурах. Однако во всех этих культурах подобные изделия встречаются в единичных экземплярах. Применительно к эпохе бронзы юга Восточной Европы памятники буджакского типа представляют первый, наиболее ранний и единственный случай, когда мода на эти украшения приобрела массовый характер, т.е. культурное значение. Соответственно, взятые в сравнении со спиралевидными подвесками с их длительной историей развития, хронологические позиции составных медных браслетов определяются как более поздние.
Другой веский аргумент в вопросе о хронологическом соотношений рассматриваемых групп — их стратиграфическое положение (рис. 18).
Ранее уже было отмечено, что из 74 курганов с комплексами с сосудами буджакского типа, лишь в четырех из них (5,4%) эти погребения являются основными — первичными, а все остальные — впускные, т.е. совершены в более древних курганах (рис. 18: 3: А—В ). Сходное соотношение дают и погребения с медными пронизями. Из 59 надежно документированных случаев только два (3,4%) являются основными, а все остальные (96,6%) — вторичные, впускные (рис. 18: 2: А—В ).
Иначе проявляют себя погребения со спиралевидными височными подвесками. Из 82 учтенных комплексов, 35 из них (42,7%) являются основными, а остальные 47 (57,3%) — вторичными, впускными (рис. 18: 1: А—В ).
Таким образом, что с позиций хронологии спиралевидных подвесок и медных пронизей к составным браслетам, что с позиций их стратиграфического соотношения, мы неизменно приходим к одному и тому же выводу — погребения со спиралевидными подвесками являются относительно более ранними, а погребения с буджакскими сосудами и медными пронизями — более поздними.
Итак, мы проанализировали территориальное и хронологическое проявление всего лишь трех типов изделий (сосудов типа буджак, спиралевидные подвески и пронизи к составным браслетам) с учетом особенностей погребальной обрядности содержащих их комплексов. Для полноты картины в этот анализ следовало бы включить еще целый ряд категорий и типов изделий, работающих на раскрытие внутренней периодизации ямной культуры рассматриваемого региона. Они были нами определены еще 40 лет назад. Речь идет об антропоморфных стелах, остатках повозок и, конечно же, о целой серии форм керамики (Дергачев 1986: 75, 84, рис. 18, 19). Однако привлечение большого объема нового, накопившегося за последние десятилетия керамического материала, предполагает предварительную разработку ее классификации, что, разумеется, не входит в задачу данной статьи.
Поэтому для более полной ориентации читателя, здесь мы ограничимся двумя сводными иллюстрациями, составленными на основе соотношения разных категории и типов изделий из разнотипных погребений: с одной стороны — скорченными на спине с поднятыми в коленях ногами, а с другой — скорченными на спине с разворотом на один из боков или — просто скорченными на боку, т.е. речь идет о позах имеющих, как известно, хронологическое значение. Прокомментируем вкратце эти иллюстрации.
Категории и типы сочетающиеся или коррелирующие со скорченными на боку погребениями — рис. 19. Погребения, в целом, отличаются чрезвычайно богатым и разнообразным инвентарем.
112 В.А. Дергачев МАИАСП № 13. 2021
Особым разнообразием выделяется керамический комплекс, который в большинстве своем включает оригинальные (т.е. отсутствующие в других культурах) формы, представленные к тому же десятками экземпляров. Это чашевидные формы: с двумя ручками—налепами с вертикальными отверстиями — рис. 19: I: 1—7 или без таковых — рис. 19: I: 8—15 ; миски конические — рис. 19: I: 16—18 или полусферические — рис. 19: I: 19—23 .
Сполна представлены амфоровидные сосуды: с налепными ручками—упорами с вертикальными отверстиями — рис. 19: II: 1—11 и амфоры высоких пропорций с ленточными ручками — рис. 19: II: 12—17.
Своеобразны относительно многочисленные кубковидные формы — рис. 19: III: 1—7 ), аски — рис. 19: IV: 1—4 ; кувшины — рис. 19: IV: 5—6 и одноручные кружки—чаши — рис. 19: IV: 7—12 .
Внимание обращают на себя своеобразный комплекс орудий труда и оружия: кремневые топоры—тесла — рис. 19: V: 1—4 и костяные наконечники стрел — рис. 19: IV: 5—7 .
О своеобразии комплекса украшений сказано достаточно (рис. 19: VI: 1—3 ). Из других категорий инвентаря сравнительно редко сопровождающих скорченные на боку захоронения следует упомянуть антропоморфные стелы — рис. 19: VI: 4—7 и детали от повозок — рис. 19: VI: 8—9 .
Совершено другую картину демонстрирует инвентарь, сопровождающий погребенных на спине с поднятыми в коленях ногами — рис. 20. В отличие от группы рассмотренной выше, эти погребения не обнаруживают собственных форм — чашевидных и/или мисковидных сосудов. Единственным исключением здесь является чаша с S-образным профилем явно импортного происхождения (рис. 20: I: 1 ).
Не лучшим образом обстоит дело и с амфоровидными сосудами. Единичны в этих погребениях амфоры с ручками—налепами с вертикальными отверстиями, определено заимствованные от носителей ранее охарактеризованной группы — рис. 20: II: 1—4 ). Редкими экземплярами представлены импортные сосуды культуры шаровидных амфор — рис. 20: II: 5—8 , встречающиеся на Среднем Пруте. Также единичными являются амфоры высоких пропорций — рис. 20: II: 12—11 и амфоры с шаровидным туловом — рис. 20: II: 12—14 . Сказанное в равной степени касается кубковидных форм, асков и кувшинов, в единичных случаях встречающиеся в комплексах степной зоны — рис. 20: III: 1—4 и рис. 20: IV: 1—2 .
Эти памятники сопровождают орудия труда и оружие из камня (топоры), кремня (наконечники стрел, ножи) или меди—бронзы, но они единичны и к тому же, носят общекультурный или «эпохальный» характер, поэтому заполнить эту колонку практически нечем — рис. 20: V.
Наиболее частыми и своеобразными для этой группы выступают три основные категории инвентаря, относящиеся к «общеямному» культурному горизонту. Это, уже известные, спиралевидные подвески — рис. 20: VI: 1—3 ; антропоморфные стелы — рис. 20: VI: 4—9 и детали от повозок — рис. 20: VI: 10—15 , концентрирующиеся преимущественно в степной зоне, но в определенной ступени присутствующие и в лесостепной зоне.
Поскольку, рассмотренные группы выстроены на основе особенностей погребальной обрядности (имеющей хронологическое значение), они проявляют себя как относительно устойчивые сочетания своеобразных качественных и количественных показателей. Поэтому нетрудно догадаться, что они, по сути, и есть отражение двух основных периодов в развитии ямной культуры Карпато-Поднестровья: раннего — представленного на рис. 20 и позднего — представленного на рис. 19.
МАИАСП № 13. 2021
Буджакская «культура» сквозь призму картографического метода
Выводы. Как составная часть сложного культурного образования — ямной культурноисторической области (или общности), в номенклатурном отношении, за памятники Карпато-Поднестровья, вопреки рекомендациям Л. С. Клейна (2016: 6), думается, было бы правильнее закрепить статус регионального образования, с названием — Карпато-Днестровский региональный вариант, в отличие от Балканского, Потисского, Южнобугского или других региональных вариантов более восточных территорий.
В пределах же Карпато-Днестрвского регионального варианта, памятники можно отчетливо разделить на два периода: ранний, условно скажем — днестровский и поздний — буджакский, с акцентом не столько на их территориальную обособленность, сколько на их хронологические различия.
Список литературы Буджакская "культура" сквозь призму картографического метода
- Дергачев В.А. 1986. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев: Штиинца.
- Иванова С.В. 2001. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: Друк.
- Иванова С.В. 2001—2002. Бинарные оппозиции в погребальном обряде ямной культуры. Stratum plus 2, 308—316.
- Иванова С.В. 2012. Об истоках формирования буджакской культуры. ССПК XVI, 48—62.
- Иванова С.В. 2013a. Ямная (Буджакская) культура. В: Бруяко И.В., Самойлова Т.Л. (отв. ред.).
- Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: СМИЛ, 211—254.
- Иванова С.В. 2013b. Культурно-исторические контакты населения Северо-Западного Причерноморья в раннем бронзовом веке: Запад-Восток. Stratum plus 2, 199—257.
- Иванова С.В. 2014. Балкано-Карпатский вариант ямной культурно-исторической области. РА 2, 5— 20.
- Иванова С.В. 2016. Причины и характер экспансии скотоводческого населения в Балкано-Карпатский регион в раннем бронзовом веке. В: Алёкшин В.А. (отв. ред.). Внешние и внутренние связи (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V—II тыс. до н.э.). Круглый стол, посвященный 80-летию С.Н. Братченко. Санкт-Петербург. 14—15 ноября 2016 г.). Материалы. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 59—64.
- Иванова С.В. 2020. 1мпорт або iмитацiя: про особливост буджаць^ культури Ившчно-Захщного Причорномор'я. АД1У 4(37), 182—198.
- Клейн Л.С. 2007. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Клейн Л.С. 2016. Ямная, буджакская и ДНК. В: Алёкшин В.А. (отв. ред.). Внешние и внутренние связи (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V—II тыс. до н.э.). Круглый стол, посвященный 80-летию С.Н. Братченко. Санкт-Петербург. 14—15 ноября 1016 г.). Материалы. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 6—13. Клейн Л.С. 2017. Ямная, не ямная (обзор современных работ о курганных погребениях Подунавья). Stratum plus 2, 361—376.
- Мерперт Н.Я. 1968. Древнейшая история населения степной полосы Восточной Европы (III — начало IIтыс. до н.э.): дисс. ... д-ра ист. наук. Москва: ИА АН СССР.
- Мерперт Н.Я. 1974. Древнейшие скотоводы Волго-Уральского междуречья. Москва: Наука.
- Петренко 2007: Личный архив В.А. Дергачева. Петренко В.Г. Отчет Приднестровской экспедиции о раскопках в 2006 г. второго Беляевского кургана. Одесса. 2007.
- Синюк А.Т. 1983. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона. Павловский курган. Воронеж: Воронежский университет.
- Субботин Л.В. 2000. Северо-Западное Причерноморье в эпоху ранней и средней бронзы. Stratum plus 2, 350—387.
- Субботин Л.В. 2003. Орудия труда, оружие и украшения племен ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Материалы по Археологии Украины 1. Черняков и др. 1986: Черняков И.Т., Станко В.Н., Гудкова А.В. 1986. Холмские курганы. В: Станко В.Н. (отв. ред.). Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 53—96.
- Шапошникова и др. 1986: Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Довженко Н.Д. Ямная культурно-историческая область (Южнобугский вариант). Киев: Наукова думка (САИ В1-3).
- Шмаглий Н.М., Черняков И.Т. 1970. Исследования курганов в степной части междуречья Дуная и Днестра (1964—1965 гг.). МАСП 6, 5—115.
- Яровой Е.В. 1985. Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР (классификация погребального обряда). Кишинев: Штиинца.
- Ivanova S.V. 2013. Connection betwen the Budzhak Culture and Central Eurupean groups the Corded Ware Culture. BPS 18, 86—120.
- Ivanova S.V., Toschev G.N. 2015. Late Eneolithic and Bronze age Prologue Pontic societies Forest-Steppe middle Ddniester and Prut drainage basins in the 4Th/3Rd2Nd millenniuv DCS F History of investigations. BPS 20, 7—39.
- Kaiser E. 2019. Das dritte Jahrtausend im osteuropäischen Steppenraum. Kulturhistorische studien zu prähistorischer subsistenzwirtschaft und interaktion mit benachbarten räumen. Berlin Studies of the Ancient World 37.
- Klochko et al. 2015: Klochko V., Kosko A., Potupchyk M., Wlodarczak P., Zurkiewicz D., Ivanova S. 2015. Tripolye (Gordine§ti group), Yamnaya and Catacomb Culture Cemeteries. Prydnistryanske. Site I, Yampil region, Vinnitsa oblast: an Archaeometric and Chronometric Description and a Taxonomic and Topogenetic Discussion. BPS 20, 183—255.
- Stöllner T. 2016. The Beginnings of Social Inequality: Consumer and Producer Perspectives from Transcaucasia in the 4th and the 3rd Millennia BC. In: Bartelheim M., Horejs B., Krauß R. (Hrsg.) Von Baden bis Troia. Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer. Eine Jubiläumsschrift für Ernst Pernicka. Raden/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH, 209—234 (Oriental and European archaeology 3).