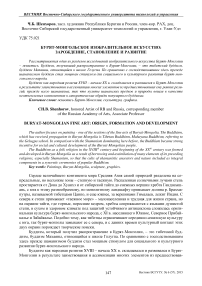Бурят-монгольское изобразительное искусство: зарождение, становление и развитие
Автор: Шенхоров Ч.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один из разделов исследований изобразительного искусства Бурят-Монголии - живопись. Буддизм, получивший распространение в Бурят-Монголии, - это тибетский буддизм, буддизм Махаяны, относящийся к школе Гелугпа. По сравнению с господствовавшим здесь прежде шаманизмом буддизм стал мощным стимулом для социального и культурного развития бурят-монгольского народа. Буддизм как народная религия XVIII - начала XX в. складывался и развивался в Бурят-Монголии в результате заимствования и ассимиляции многих элементов из предшествовавших ему ранних религий, прежде всего шаманизма, так что культы шаманских предков и природы вошли в качестве неотъемлемых компонентов в синкретические обряды популярного буддизма.
Живопись бурят-монголии, скульптура, графика
Короткий адрес: https://sciup.org/142143129
IDR: 142143129 | УДК: 75.021
Текст научной статьи Бурят-монгольское изобразительное искусство: зарождение, становление и развитие
Сердце величайшего континента мира Средняя Азия самой природой разделена на сопредельные, но несхожие зоны – степную и таежную. Раскаленная солнечными лучами степь простирается от Дона до Хуанхэ и от сибирской тайги до снежных вершин хребта Гандисыш-ань, с юга к этому разнообразному, но монолитному ландшафту примыкает долина р. Брахмапутры, называемой тибетцами Цанпо, и еще южнее, за вершинами Гималаев, лежит Индия. С севера к степи примыкает «таежное море» ‒ малонаселенная и трудная для жизни страна, но на окраине тайги, где горные, поросшие кедром, хребты соприкасаются с языками душистой степи, в сухом и здоровом климате под защитой устойчивого антициклона сложилась оригинальная культура бурят-монгольского народа, с XI в. населившего Южное, Северное Прибайкалье и Забайкалье. Подобно тому, как тибетцы ограничивают серединно-азиатскую культуру с юга, так бурят-монголы замыкают ее с севера, и с давних времен культурный контакт этих двух окраин порождает творческие поиски.
Буддизм, который получил распространение в Бурят-Монголии, – это тибетский буддизм, буддизм Махаяны, относящийся к школе Гелугпа. По сравнению с господствовавшим здесь прежде шаманизмом буддизм стал мощным стимулом для социального и культурного развития бурят-монгольского народа.
Буддизм как народная религия XVIII ‒ начала XX в. складывался и развивался в Бурят-Монголии в результате заимствования и ассимиляции многих элементов из предшествовав- ших ему ранних религий, прежде всего шаманизма, так что культы шаманских предков и природы вошли в качестве неотъемлемых компонентов в синкретические обряды популярного буддизма.
Важным аспектом истории распространения буддизма Бурятии является распространение монгольской тибетской письменности, развитие грамотности среди населения, усвоение основ индо-тибетской и китайской астрономии, по данным которых велось летоисчисление по 60-летнему животному циклу и составлялись практические ежегодные календари.
Буддизм стал своеобразным мостом, соединившим Бурят-Монголию с культурной традицией востока – Индии, Тибета и Китая. Тибет был в выгодном географическом положении – соседство с Индией, Ираном, постоянные столкновения с Китаем, приносившие горцам богатую добычу, близость великого караванного (шелкового) пути, проходившего через Хотан Кашгар, оазисы Восточного Туркестана – все стимулировало в Тибете интеллектуальную деятельность. Плоды этой деятельности через буддийский монахов попадали в Бурят-Монго-лию.
До освоения Россией Восточной Сибири это была главная культурная артерия, наполнявшая воображения серединно-азиатских кочевников в отличие от западноевропейцев, мусульман и китайцев, распространявших принципы цивилизаций силой оружия и заливавших кровью захватываемые ими земли, Византия и Тибет претендовали на господство только над душами и сердцами.
Учение Цзынхавы было принято халха-монголами (современными), современными калмыками и бурят-монголами, причем обращение последних совершилось уже в XIX в. Утвердившись на полвека в Сибири, буддизм оставил след своеобразной культуры, представленный оригинальным искусством, заимствованным из далекого Тибета.
Отличительной чертой буддийской иконографии Бурят-Монголии, наиболее поздней по времени включения в многосостоявшую колоногическую общность (XVIII в.), является непрерывность изобразительной традиции индо-тибетского буддизма в длинном ряду эталонов искусства махаяны (Ваджраяны), составившим основу бурят-монгольской иконографической традиции, по значимости языка и форм подразделяются тибетская, китайская, монгольская, а также индийская, центральноазиатская и непальская традиции. Ни одна из религиозных систем мира не имеет столь развитой иконографии, как буддизм. Количество и разнообразие изображений, подлежащих почитанию в буддизме и ламаизме, кажется на первый взгляд беспредельным, но при пристальном изучении обнаруживается, что разнообразие тематики подчинено строгой системе, а трактовка сюжетов ‒ не менее строгому канону. Однако остается место для личного творчества, так как в школах наряду с центральными фигурами можно вводить второстепенные мотивы, трактовка которых зависит уже от личного вкуса художника.
Содержание и смысл буддийской иконы вложены в образ отвлеченной идеи, воплощенной в линиях и красках. Часто это милосердие или мудрость, реже ‒ гнев и ревность к вере, иногда ‒ воздание за грехи или устрашение, также встречаются образы сторон света – севера, юго-востока и запада; образы отдельных профессий. Например, медицина ‒ это скорее символические знаки, чем картины, но фигуры антропоморфны, и эстетический канон выдержан необычайно строго. Эти особенности, с одной стороны, затрудняют восприятие изучаемого искусства, так как для понимания картины знание сюжета обязательно, а с другой ‒ раскрывают широкие горизонты восточной эстетики и этики, истории.
Происхождение сюжетов и мотивов иконографии и символики изобразительного искусства буддизма связано с индийской культурной традицией. В древнеиндийской традиции иконография наряду с ритуалами создает сакральное пространство культуры.
Живопись на свитках танка в ее канонической красоте и завершенности создал Тибет, хотя установлено, что прототипом танка послужила пата: живописные изображения Будды на полотне встречаются в редакции сборника повествование о деяниях Бодхисановы Дхармара-джи Ашоки (Ашоковадана XV в.).
Наряду с общими буддийскими сюжетами можно рассматривать локальные варианты икон (танка), тесно связанные с местом написания, эпохой и личностью художника, а так как последняя всегда зависит от своей эпохи, то при наличии большого количества вариантов в поле зрения исследователя иконографический материал может быть использован как археологический источник.
Буддийская иконопись, подобно христианской, ограничена религиозно-эстетическим канонам, обусловливающим формы и атрибуты изображаемых божеств и святых, но в то же время дает возможность для проявления творческой индивидуальности художника. Именно это обстоятельство придает иконам (танкам) сверхэстетическое познавательное значение, потому что в иконографии бурят-монгольских дацанов переплетаются тибетские, китайские и даже русские культурные традиции, уходящие в глубокую древность, но и отвечающие модернизированному сознанию XIX-XX вв. Поэтому наряду с подражанием высоким образам средневекового тибетского искусства встречаем изображения, значительно от них отличающиеся как по содержанию, так и по выполнению живописи, сохранившейся на иконах; фиксировались и отражались крупные исторические события Тибета вплоть до начала XX в.
История культуры, как и любая история человечества, берет начало со времен, когда только появлялся, развивался человек. Но сама постановка вопроса о «начале» чего угодно – бессмыслица, потому, что немедленно возникает вопрос, а что было перед «началом»? Если вдуматься в проблему глубже и обратить внимание на неравномерность развития, то вместо безликой эволюции будет сложная картина вспыхивающих и затухающих волн творческой жизни. Эти волны появляются не только в искусстве, но и в философии социально-политической жизни и, сравнивая гребень с гребнем, спад со спадом, улавливаем ритм истории прерывность (дискретность) традиций. И тогда вопрос о «начале» культурной традиции приобретает глубокий смысл.
Любая традиция развивающихся культур – это не застывший факт, а диалектический процесс, который через отрицания приходит к своей противоположности. Но прошлое оставило отдельные памятники, на основе которых можно делать заключения.
Так что же считать за начало процесса?
Известно, что любой процесс проходит инкубационную фазу, когда еще невидим и неощутим, затем накопленная потенция переходит в кинетическую энергию развития. Этот момент фиксируется, но некоторое время спустя.
В целом тибетскому тантрийскому искусству свойственны переизбыток форм, сложное смешение стилей, школ и типов. История иконографических типов внутри истории школ тибетского буддизма не препятствует образованию сложносоставного иконографического собрания, самым известным образцом которого является, несомненно, «Древо собрания трехсот изображений», где графически воспроизведены основные божества и Гуру, не препятствует образованию новых школ тибетского буддизма – сакьяпа, шижодпа, гелугпа в соответствии с историческими условиями распространения.
В Бурят-Монголии в Тибетском буддизме разделы танка и скульптуры передают совокупность изображений той или иной школы, помимо занимавшей здесь преобладающие позиции школы гелукпа.
Однако он часто описывается и датируется с достаточной степенью точности. Значит, есть возможность и право брать именно этот момент за исходную точку исследования. Обычно крупный исторический процесс связан не с индивидуальной деятельностью одного человека, как бы талантлив он не был. Каждый народ, имеющий память о прошлом, отмечает начало начал или время своего возникновения. Чаще всего первая дата истории облекается в причудливую одежду легенд. Поскольку проповедники буддизма принесли в XVI в. в Бурят-Монго-лию грамотность, медицинскую помощь и искусство, то вполне естественно, что на данном этапе исторического развития, особенно когда страна изнывала от внутренних войн, проповедь мира и культуры сыграла колоссальную роль.
Изучаемое искусство отражает именно последнюю синкретическую фазу своего становления.
В этих иконах (танках) представлено немало сюжетов, заслуживающих отдельных монографических исследований. Но ограничимся показом яркого и красочного мира бурят-монгольского художника, научившегося сопрягать историю с мифом, натуру с философскими идеями.
Предметы искусства, хранящиеся в различных музеях, являются памятниками не столько религии, сколько причудливо переплетающихся традиций разных культур. Искусство, сохраненное бурят-монгольскими художниками, отражает не только окружавший мир и материальное прошлое в символических образах не самих людей древности, а тех их деяний, за которые они удостоились памяти в потомстве.
Живопись танка – это своеобразная летопись Древнего Тибета, без учета которой были бы непонятны явления и перипетии истории Центральной Азии. Им было тесно в скудных хрониках Китая, Тибета и других стран Азии. Они поместились в цветных полотнах буддийских икон и там дожили до наших времен, прикрывшись масками, под которыми скрываются воинственные скуластые лица. Если сорвать фантастические буддийские маски, можно увидеть подменную жизнь Древнего Тибета.
Живопись – это своеобразная летопись Древнего Тибета, без учета которой были бы непонятны явления и перипетии истории Центральной Азии. Можно сказать, что наряду с Цезарем и Периклом, Аменхотепом и Ашшурбанапалом, Чингисханом и Бахрамом в науку вошли храбрый витязь Сронцангомбо и лукавый Тисродецан, странник-ученый Тонглии Самбода, маг-чародей Падма Самбава, грозный Мажан и неистовый Лантдарма, а вслед за ними тибетские воины, закованные в чешуйчатые панцири, жрецы, украшенные перьями, бритоголовые монахи с книгами в руках и весь тибетский народ.
Заключение
Освоив правила и технику тибетской живописи, бурят-монгольские художники создавали произведения, не уступавшие по мастерству лучшим творениям тибетского искусства. Тибетское искусство сыграло в истории бурят-монгольского изобразительного искусства двоякую роль. С одной стороны, по произведениям тибетского искусства бурят-монгольского мастера знакомились с приемами и техникой письма, сложившейся системой пропорций и композиции, свето- и цветовидения, сложной философской религиозной доктриной ламаизма, включавшей в себя все виды творческой деятельности.
С другой стороны, застывшие каноны средневековой схоластики со временем стали задерживать и тормозить проявления творческой индивидуальности художников, их стремление и отражения в живописи окружающей действительности.
Кроме тибетского определенное воздействие на бурят-монгольскую живопись оказало китайское искусство, особенно работы мастеров-иконописцев, следовавших тибетским канонам. Трудно уловимые на первый взгляд различия между бурят-монгольским, китайским и тибетским стилями безошибочно определяли в Бурят-Монголии художники и знатоки, хорошо чувствовавшие особенности бурят-монгольского национального искусства.
В заключение необходимо отметить, что бурят-монгольская живопись конца XIX – начала XX в. предствляет собой традиционное искусство, отражающее реальность и мировосприятие народа. В конце XIX в. с ослаблением внимания религии, искусство в сравнительно короткий срок обогатилось новыми чертами. Остается сожалеть, что до настоящего времени они полностью не изучены, хотя и явились одним из источников развития современного изобразительного искусства.
Список литературы Бурят-монгольское изобразительное искусство: зарождение, становление и развитие
- Бороноева Т.А. Графика Бурятии: монография. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. -165 с.
- Николаева Л.В. Модернизация и формирование национальной художественной культуры Бурятии XX в.//Реальность этноса. Этнонациональные аспекты модернизации образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (18-21 марта 2003 г.). -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. -С.642-645.
- Алексеева Т.Е. Изобразительное искусство Бурятии//Историко-культурный атлас Бурятии. -М.: Дизайн. Информация. Картография, 2001.
- Соктоева И.И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии: монография. -Новосибирск, 1988.