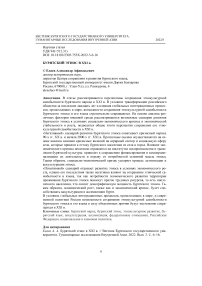Бурятский этнос в XXI в
Автор: Елаев Александр Афанасьевич
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перспективы сохранения этнокультурной самобытности бурятского народа в XXI в. В условиях трансформации российского общества за последние двадцать лет и влияния глобальных интеграционных процессов, происходящих в мире, возможности сохранения этнокультурной самобытности бурятского этноса и его языка стремительно сокращаются. На основе анализа различных факторов внешней среды рассматриваются возможные сценарии развития бурятского этноса в условиях социально-экономического кризиса и экономической стабильности и роста, подводятся общие итоги перспектив сохранения его этнокультурной самобытности в XXI в. «Негативный» сценарий развития бурятского этноса охватывает кризисный период 90-х гг. XX в. и начала 2000-х гг. XXI в. Прогнозные оценки осуществляются на основе анализа влияния кризисных явлений на аграрный сектор и социальную сферу села, которые привели к оттоку бурятского населения из села в город. Влияние экономического кризиса негативно отражается на институтах воспроизводства и трансляции бурятской культуры: приводит к сокращению финансирования и коммерционализации их деятельности и отрыву от потребностей основной массы этноса. Таким образом, социально-экономический кризис ускоряет процесс деэтнизации и аккультурации этноса. «Позитивный» сценарий отражает развитие этноса в условиях экономического роста, однако его последствия также негативно влияют на сохранение этнической самобытности и языка, так как потребности экономического развития территории проживания бурятского этноса повлекут приток трудовых ресурсов, то есть иноэтничного населения, что снизит демографическую мощность бурятского этноса. Таким образом, экономический рост, также как и экономический кризис, будет способствовать аккультурации и ассимиляции бурят. В условиях глобальных интеграционных процессов, происходящих в мире, и современной политики России возможности сохранения этнокультурной самобытности бурятского этноса и его языка в силу объективных причин будут постепенно сокращаться в XXI в.
Бурятский народ, бурятский этнос, этнокультурное развитие, бурятский язык, аккультурация, ассимиляция, федеративные отношения, российская федерация, национальная и языковая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/148325648
IDR: 148325648 | УДК: 94(=512.31) | DOI: 10.18101/2305-753X-2022-3-6-16
Текст научной статьи Бурятский этнос в XXI в
Елаев А. А. Бурятский этнос в XXI в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. Вып. 3. С. 6‒16.
Перспективы развития бурятского этноса в XXI в. зависят во многом от условий его существования и влияния различных факторов окружающей среды.
Бурятский этнос, несмотря на ограниченную численность, географически, как и подобает исторически кочевникам, расселен на большой территории, но его этническое ядро обитает в ареале Республики Бурятия (который условно можно рассматривать как этноцентр). Другая часть бурят (периферия) расселена за пределами Бурятии: в Иркутской области, Забайкальском крае и других субъектах РФ, а также в Монголии, КНР и других странах.
В начале XX в. один из ярких общественных деятелей и мыслителей бурятского народа М. Н. Богданов в условиях социально-политических катаклизмов и гражданской войны, а также наступления капитализма высказал пессимистический прогноз в отношении будущего бурятского народа [1].
Но прошло больше ста лет, и бурятский народ как этнос сохранился, несмотря на общие тенденции развития этнических общностей и культур в мире, что свидетельствует об их интеграции, аккультурации и поглощении менее устойчивых этнокультур более сильными доминирующими культурами численно больших этносов [2].
В связи с этим правомерно возникают вопросы: насколько реальна угроза утраты этнической идентичности, этнокультурной самобытности и родного языка бурятским этносом в XXI столетии; каковы перспективы сохранения его как этноса.
Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть в качестве возможных следующие сценарии этнокультурного развития бурятского народа в ближайшие десятилетия.
Варианты, или сценарии, развития бурятского народа в новом столетии, безусловно, должны учитывать, кроме этнокультурных и социальных факторов, состояние и динамику социально-экономических процессов в Республике Бурятия и округах как составных частей российского и мирового экономического пространства. Также учитывать влияние других факторов внешней среды: этнокультурного, языкового окружения и межэтнического взаимодействия, правового и информационного полей, без чего невозможно существование и развитие любого социума.
В то же время необходимо не попасть в оценке настоящего и прогнозировании будущего в зависимость от «прошлого». В этом смысле следует принять во внимание мнение известного немецкого историка Алейды Ассман о том, что «темпоральный режим культуры» характеризуется обращенностью в прошлое. Именно в прошлом люди искали оправдание и обоснование своему настоящему и будущему. Оно служило как бы нормативной основой для этого» [3].
Этнокультурное развитие бурятского народа в условиях социальноэкономического кризиса и неопределенности будущего страны (негативный сценарий)
Итак, если исходить из ситуации продолжающегося социальноэкономического кризиса и углубляющейся стагнации, то сценарий развития можно будет представить следующим образом.
В условиях кризиса проблемы физического выживания для основной массы населения, включая ее бурятскую часть, обострятся и выйдут на первый план, отодвинув этнокультурные потребности. Вследствие этого процесс деэтниза-ции и маргинализации основной массы этноса будет происходить по нарастающей и более высокими темпами.
Республика Бурятия, Усть-Ордынский и Агинский Бурятские округа считаются агропромышленными, но фактически они остаются преимущественно аграрными территориями. Кризис ухудшит состояние сельского хозяйства, а это, в свою очередь, обострит экономические и социальные проблемы сельского населения, значительная часть которого — бурятская, и приведет к усилению его миграции в город.
Отток трудовых ресурсов из села приведет к сокращению населения и негативно затронет институты воспроизводства бурятской культуры, а это приведет к еще большей социальной и духовно-культурной маргинализации и деградации сельского, в том числе бурятского, населения.
Незапланированная, стихийная миграции из села создаст проблемы в трудоустройстве и поиске жилья. Город является полиэтничным образованием. Отсутствие в городе нормальных социальных условий для адаптации сельских мигрантов создаст социальный дискомфорт и негативно отразится на их социальном самочувствии и этническом самосознании.
В условиях ухудшающего социального положения и обострения проблем физического выживания высокие культурные, в том числе и этнокультурные, запросы вынужденно отойдут на второй план и будут подавлены сиюминутными меркантильными интересами. Образовавшийся духовный вакуум будет восприимчив для суррогатов массовой потребительской культуры — в лучшем случае, а в худшем — приведет к усилению духовно-нравственной и общей деградации этноса, а в дальнейшем — к маргинализации его значительной части.
Важнейшим актором, регулирующим этническое развитие и межнациональные отношения, является государство. Современное Российское государство развивается под воздействием идей неолиберализма, который не признает этнофедерализм в государственном строительстве. В этих условиях Республика Бурятия как составная часть России вынужденно признала необходимость отказа от национальной государственности бурятского народа и признания многонацио-нальности республики и ее государственности как территориальной. Соответственно такое государство постепенно изменит свою национальную политику в отношении народов России.
В условиях кризиса и Республика Бурятия, и бурятские округа, являясь дотационными, будут вынуждены сокращать свои социальные обязательства, отказываться от государственного патернализма в отношении каких-либо социальных и этнических групп. На практике это будет политикой гомогенизации населения регионов как частей «единой и неделимой России» и выразится дальнейшей ассимиляцией и деэтнизацией бурятского народа.
Экономический кризис, бюджетный дефицит, неурегулированная и противоречивая правовая база объективно ограничат государственное финансирование социальной сферы и социокультурных институтов воспроизводства бурятской культуры и языка. А проблема «самовыживания» вынудит институты воспроизводства бурятской этнокультуры коммерциализировать свою основную деятельность, что приведет к отходу от основной их «миссии» — транслятора высокого бурятского искусства — и «замыканию» в интересах финансового выживания.
Это будет способствовать сокращению этнокультурного влияния на этнос, особенно на его сельскую часть.
Дефицит финансирования заставит бурятские театры и другие творческие коллективы перейти на репертуарную политику, которая будет ориентирована на получение дохода и в которой не окажется средств для гастролей в сельские районы республики и округа. Это приведет к еще большему отрыву высокого бурятского искусства от культурных потребностей основной массы этноса.
Кризис экономики негативно отразится на возможности самого этноса в финансировании и материальной поддержке сохранения этнической самобытности, ретрансляции этнокультурных традиций и ценностей из-за экономической слабости и малочисленности малого бизнеса и среднего класса как такового. Более того, экономический кризис усилит социальное расслоение, что приведет к поляризации внутри этноса и будет способствовать разрушению традиционных институтов этнического коллективизма и общинности, традиций и обычаев, а это повлечет за собой еще большую атомизацию этноса.
Нужно признать, что кризис отразится на активности общественных формирований и их эффективности воздействия на этнос из-за ограничения источников и объема финансовой поддержки и атмосферы общей деморализации, бесперспективности и безысходности в обществе.
Инициативы общественных объединений по решению проблем этноса все меньше будут находить понимание и адекватный отклик со стороны основной массы этноса, всецело поглощенной проблемой физического выживания и безысходности.
В этих условиях безысходности часть общественных организаций попытается радикализировать свои позиции, что не даст желаемого результата, потому что в условиях деформированной политической системы это приведет лишь к усилению этнополитической напряженности в обществе и негативно отразится на положении самого этноса в окружающем социуме. При этом существующая политическая система будет сознательно игнорировать сигналы «снизу», а в случае необходимости и по своему усмотрению будет включать применение силы.
Бурятская элита , сформировавшаяся в условиях прошлой политической системы, имеющая в настоящее время низкий уровень жизни и социальный статус, не пытается взять на себя роль лидера в защите интересов этноса и противодействии его социальной деградации и аккультурации. Ее робкие попытки обращения к власти и внесения предложений по решению проблем этноса не получат желаемого результата в связи с бедственным положением государственного бюджета и общей бюрократизацией госаппарата. Все это еще больше усилит фрустрацию национального самосознания и укрепит этнические комплексы бурятского этноса.
Не стоит возлагать больших надежд на деятельность традиционных церквей и других религиозных объединений по укреплению духовного потенциала бурятского этноса, сохранению его моральных устоев и этнических традиций. Следует иметь в виду, что в настоящее время роль религии в современном обществе значительно изменилась из-за кризисного состояния самого института церкви после почти векового господства в стране государственного атеизма и преобладания потребительских интересов у основной массы прихожан.
Таким образом, в условиях социально-экономического кризиса реальной перспективой развития бурятского этноса в ближайшие десятилетия нового XXI в. является усиление его аккультурации, а также дальнейшая маргинализация, усугубленная социальными проблемами и обнищанием.
Этнокультурное развитие бурятского этноса в условиях политической стабильности и экономического роста («позитивный» сценарий)
С поправкой на положительный сценарий развития экономической ситуации в результате преодоления кризиса и начала экономического роста может быть рассмотрен следующий вариант перспектив развития этноса в первых десятилетиях ХХI в.
Республика как любой субъект Федерации будет стремиться к экономической модернизации региона для обеспечения экономического роста. Задачи модернизации экономики республики потребуют реструктуризации и оживления промышленности, а также развития новых производств.
Однако сдерживающим фактором ее экономического развития была и будет низкая численность экономически активного населения республики. Развитие экономики в режиме роста потребует увеличения притока трудовых ресурсов извне. Миграционный приток повлечет за собой увеличение иноэтничного населения (опыт строительства БАМа, Гусиноозерской ГРЭС в 70-е годы прошлого столетия), а это, в свою очередь, приведет к сокращению доли бурятского населения в республике и округах, к ослаблению его демографической мощности , что в перспективе усилит угрозу ассимиляции [4].
С точки зрения неолиберализма , где ценности индивидуализма и потребительского общества, права человека являются главными, они объективно будут доминировать (подавлять) интересы и права коллективных общностей, таких как этносы. Отсюда следует, что экономическая модернизация, основанная на идеях неолиберализма, приведет к сокращению затрат на сохранение языка и самобытности этнических групп, в частности бурят.
Следует также учитывать, что конкуренция в экономических и общественных отношениях приведет к сегментированию рынка и вытеснению из экономически выгодных сфер бизнеса представителей этносов-аутсайдеров. Они из-за меньшей своей численности и этнических особенностей окажутся неконкурентоспособными и будут уступать эти сферы численно доминирующим этническим группам.
Изменится также система финансирования социальной и этнокультурной сфер и сократится государственная финансовая поддержка институтов воспроизводства этнической культуры.
Укрепление рыночных отношений и рыночной психологии приведет смене ценностных ориентаций населения . Традиционные коллективистские ценности будут постепенно замещаться индивидуалистскими. Будет усиливаться влияние доминирующей русской культуры и западной «вестернизации» на бурятскую культуру, что ускорит процесс аккультурации значительной части бурятского этноса.
Бурятская культура под воздействием процессов унификации и универсализации будет постепенно терять свои традиционные элементы и черты этнической самобытности. В духовных запросах основной массы этноса она будет отходить на второй план из-за снижения ее востребованности. Бурятская культура все больше будет обретать фольклорно-театральные формы и отдаляться от запросов основной массы этноса. В сознании этноса, особенно молодежи, она все больше будет ассоциироваться с его «архаичным прошлым» и все меньше будет способна формировать этническое самосознание и обеспечивать ретрансляцию этнических ценностей в будущее.
Таким образом, успешные экономические преобразования и экономический рост будут способствовать формированию человека индивидуалистского типа, собственника, все менее зависимого от государства и других коллективных форм, в том числе от этнической общинности. Увеличение доли людей такого типа в составе этноса приведет к изменению качественных характеристик бурятского этноса. Это будет уже другой новый этнос , менее подчиненный прежней этнической традиционности, все более переходящий в общении на язык и куль тУРУ большинства, то есть более деэтнизированный и ассимилированный.
Таким образом, второй (позитивный) сценарий развития бурятского народа в условиях экономического роста также предполагает трансформацию его эт-ничности и постепенную аккультурацию.
Как мы видим, оба предполагаемых варианта развития бурятского этноса, учитывающих воздействие на него окружающей политической, экономической и культурной среды, дают основания утверждать, что в новом столетии преобладающей тенденцией развития бурятского этноса будет изменение этнической идентичности его членов, а также постепенная трансформация этничности в целом, а в перспективе — усиление его аккультурации и постепенная деэтнизация.
Вышеизложенные выводы не ставят цели искусственной драматизации ситуации. Они объективно отражают общие закономерности развития государств и этносов в мире в целом и России в частности.
В основе этих закономерностей лежат объективные интересы любого государства-нации: сохранить свою целостность за счет достижения гомогенности состава своего населения, что может осуществляться путем ассимиляции (насильственной или естественной) численно меньших и культурно отличающихся групп. Стремление же численно меньших этносов сохранить свою самобытность объективно вступает в противоречие со стратегическим целями нации-государства и воспринимается им как потенциальная угроза своей целостности, поэтому расценивается как проявление этнического национализма и сепаратизма.
Этнокультурное развитие бурятского этноса в условиях современной России (третий сценарий)
При рассмотрении и прогнозировании будущего бурятского этноса объективно приходится основываться на теоретических положениях конструктивизма и инструментализма , учитывать их и не игнорировать положения примор-диализма [5].
Если подходить к их использованию для анализа и оценки рационально, без ангажированности, то, на мой взгляд, не возникает каких-либо кардинальных противоречий.
Бурятский этнос, как и общество в целом, развивается, утрачивая определенные свои черты и приобретая новые. На протяжении всего исторического процесса этнического развития бурятского народа шла постоянная модификация его этнокультурного комплекса. Это свидетельствует о том, что непрерывная из- менчивость этноса является его сущностной чертой, механизмом его адаптации к постоянно меняющимся внешним условиям. И неудивительно, что многие традиции, обычаи и нормы, присущие бурятскому этносу в начале ХХ в., в конце столетия утрачены безвозвратно или же приобрели другие формы и качества [6].
При рассмотрении перспектив развития бурятского этноса в современных условиях необходимо иметь в виду то, что они будут иметь определенные погрешности, потому как нынешняя политическая система все еще находится «в развитии» и поэтому не является «демократической» в полном смысле этого слова, соответственно, такой же является и ее национальная политика.
Нынешнее российское общество можно охарактеризовать как «имитационное». И в смысле ожиданий будущего, которое может быть в определенной степени сравнимо с периодом позднего СССР, когда «желаемое светлое будущее» во многом было декларировано и имело, в смысле политического и экономического развития, отложенный результат.
Современная Россия с начала 2000-х гг. как федеративное государство целенаправленно и систематически находится в процессе дефедерализации: ограничение экономических, финансовых и других прав субъектов Федерации в пользу федерального центра, вплоть до отмены выборов глав и введения назначения глав субъектов (после событий в Беслане), что можно расценивать «де факто» как демонтаж основ федерализма. Из официальной лексики постепенно исчезла федералистская терминология, что также свидетельствует о тенденциях усиления централизации, унификации и унитаризации страны. Утверждение пресловутой «вертикали власти», то есть одностороннего усиления и доминирования центра, изменение соотношения налоговых доходов в пользу центра до 68% — все это свидетельствует об активном процессе превращения России в унитарное государство и «отходе» от принципов федерализма.
Республика Бурятия — субъект Федерации, правовой статус которого является переходным от национальной государственности бурятского народа к территориальному типу многонациональной государственности.
Однако в результате свертывания федерализма Республика Бурятия как субъект Федерации превращается в административно-территориальную единицу — фактически в провинцию унитарного государства, что отражается на ее этнической составляющей и национальной политике в отношении бурятского народа.
В соответствии с конституционными положениями по разграничению полномочий и предметов ведения Республика Бурятия как субъект Федерации уже сегодня ограничена в возможностях защиты этнических прав и интересов бурятского народа, которые в соответствии с Конституцией РФ относятся к основным правам и свободам граждан, их защита является прерогативой федерации. Республика Бурятия может лишь частично участвовать в регулировании интересов этнических групп исходя из интересов территории и всего ее многонационального населения, но не какого-либо отдельного этноса, даже если он признается титульным.
В этой ситуации национальные республики как субъекты Федерации формально еще сохраняют статус субъектов, но фактически превращаются в простые провинции унитарного и жестко централизованного государства, где политика и управление страной осуществляются узким кругом бюрократии в Центре.
В условиях культурного, информационного, численного доминирования русского этноса, который составляет 83% населения Российской Федерации, сфера функционирования бурятской культуры и языка будет объективно сокращаться.
Подтверждением этому является современная языковая политика . Унификация и бюрократизация языковой политики современной России оставила далеко позади попытки нивелирования национальных языков в союзных и автономных республиках в период позднего Советского Союза.
В настоящее время для свободного и нормального функционирования языков народов России искусственно создаются различные препятствия и ограничения, и это ведет к постепенному их вытеснению не только из публичной сферы, но и системы образования.
Законодательное закрепление русского языка как государственного языка Российской Федерации, а затем признание его языком государствообразующего народа автоматически ставит языки народов России в подчиненное и зависимое положение и ограничивает языковые права граждан и народов. Продекларированный в 2018 г. в Йошкар-Оле «запрет», или так называемая «добровольность» изучения национальных языков в школе, открыл простор для фактического и законодательного ограничения изучения национальных языков в субъектах Федерации. И этот процесс ограничений не только не прекращается, а продолжает набирать обороты.
В настоящее время на перспективы сохранения этнокультурной самобытности бурятского этноса значительно влияет информационная свобода и глобальная информационная сеть, они изменяют информационно-культурное поле республики и округов. Стремительно возрастают возможности получения и передачи информации на большие расстояния, а государственные границы не могут выполнять роль барьеров для информации и постоянно возрастающего культурного обмена между странами.
Поэтому вполне можно предположить, что буряты будут поставлены в условия необходимости переходить на язык и культуру большинства и усваивать «универсальные ценности». Уже сегодня процессы коммуникации и передача информации осуществляются преимущественно на языке большинства той или иной страны, а также на мировых языках, перспективы сохранения и развития миноритарных языков, в том числе бурятского языка, становятся еще более проблематичными.
В этих условиях, если не предпринять срочных эффективных и системных мер по защите языка, социальные функции бурятского языка будут сокращаться, он все меньше будет способен отвечать своему назначению. При существующей ныне незаинтересованности власти, а главное — самого этноса в отношении родного языка, этот процесс постепенно будет вести к отмиранию его как средства коммуникации в общественной сфере, а затем и вообще как живого разговорного языка, который не обеспечивает коммуникации внутри этноса. Языковой сдвиг, произошедший в самосознании бурятского этноса в отношении своего языка, является утратой языковой лояльности и тревожным сигналом усиления аккультурации и языковой ассимиляции.
Какие выводы можно сделать в отношении перспектив развития бурятского этноса? Что можно предложить в качестве рекомендаций для обеспечения нормального развития бурятского этноса в перспективе?
-
1. Развитие бурятского этноса в XXI в. нужно принимать как необходимую модернизацию (модификацию) бурятской этничности на основе сохранения нравственности, гармонично сочетающую в себе прогрессивные начала самобытности и традиционности, опирающуюся на них. Сохранение и культивирование нравственно здоровых этнических ценностей и родного языка, гармонично сочетающихся с общей высокой культурой и образованием, и должно обеспечивать динамичное и поступательное развитие этноса.
-
2. Необходимо признать национальную автономию (национальную государственность) политической и правовой гарантией свободного этнокультурного развития и сохранения самобытности этноса.
-
3. Необходимо последовательно укреплять национальное самосознание на основе его модификации, предполагающей сохранение самобытности и интеграции в современные демократические институты общества.
-
4. Необходимо продолжение национального строительства, которое должно осуществляться на основе использования естественных инструментов и механизмов саморегуляции и саморазвития этноса. Самоорганизация должна рассматриваться как важный элемент жизнедеятельности этноса, как условие обеспечения его саморазвития.
-
5. Необходимо признать, что индивидуальный уровень — уровень отдельной личности — является ключевым и должен служить критерием эффективности всей работы. На этом уровне необходимо создание системы нравственных этнических норм, механизмов передачи информации, ориентиров автономного развития личности и сохранения идентичности, что должно обеспечить развитие этноса в целом.
-
6. В условиях культурной конкуренции групп, доминирующего положения русской культуры и языка (государственное управление, информационные связи и поле, разница в количественном потенциале) развитие бурятской культуры нельзя рассматривать изолированно, вне существующего общего культурного поля государства, республики, округа и т. д. Бесперспективно и вредно противопоставлять бурятскую культуру и язык доминирующей.
В этом плане сохранение и развитие традиционных связей внутри бурятского этноса в форме территориально родственных групп позволяет предположить, что, с одной стороны , их можно рассматривать как архаику и как проявление «трайбализма», а с другой — как естественный способ сохранения этнической идентичности, национального самосознания и этнического единства и форму передачи этнической информации следующим поколениям. Поэтому их существование и сохранение возможно в той или иной форме в перспективе.
Исходя из существующего положения необходимо определить ориентиры этнокультурного развития народа. Задача состоит в том, чтобы выбрать приемлемые варианты его развития (сохранения).
Список литературы Бурятский этнос в XXI в
- Богданов М. Н. Очерки истории бурят-монгольского народа / под редакцией Н. Н. Козьмина. 2-е изд. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. 304 с. Текст: непосредственный.
- Араш Абизаде. Этничность, раса и человечество, возможное в будущем / перевод с английского Юрия Зарецкого и Валерия Зеленского // Неприкосновенный запас. 2010. № 1. URL: https://magazines.gorky.media. (дата обращения: 23.08.2020). Текст: электронный;
- Капустин Б. Законодательство истины, или Заметки о характерных чертах отечественного дискурса о нации и национализме // Логос. 2007. № 1(58). С. 103-137. Текст: непосредственный;
- Кэтрин Вердери. Куда идут «нация» и «национализм»? URL: http//antropotok.arhipelag.ru (дата обращения: 23.08.2020). Текст: электронный;
- Дерикот Н. Будут ли в будущем существовать нации? 2019. 30 апр. URL: http://iuturist.ru (дата обращения: 23.08.2020). Текст: электронный;
- Кочетков В. В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2012. № 2. С. 144-162. URL: https://zapadrus.su (дата обращения: 26.08.2020). Текст: электронный;
- Сафонов А. Л., Орлов А. Д. Нация и этнос в едином мире // Век глобализации. 2013. Вып. 2(12). С. 155-167. URL: https://www.socionauki.ru (дата обращения: 23.08.2020). Текст: электронный;
- Тайсаев Д. М. Эволюция. Этничность. Культура. На пути к построению постнеклассической теории этноса. Москва: Изд-во М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т), 2005. 200 с. Текст: непосредственный;
- Попов М. Е. Над-этническая идентичность: опыт формирования гражданского общества и российская по-лиэтничная специфика. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Popov_nadet.pdf (дата обращения: 23.08.2020). Текст: электронный.
- Алейда Ассман. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. 2013. URL: https://kartaslov.ru (дата обращения: 06.08.2020). Текст: электронный.
- Кузнецова Я. А. Трудовой потенциал Бурятии в 1970-1980-е годы: количественные и качественные характеристики / главный редактор А. Х. Элерт // Исторический ежегодник: сборник статей. Новосибирск, 2010. С. 226. Текст: непосредственный.
- Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. 3-е изд., испр. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 412 с. Текст: непосредственный;
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Москва: Канон-Пресс-Ц, 2001. 288 с. Текст: непосредственный;
- Геллнер Э. Нации и национализм. Москва: Прогресс, 1991. 320 с. Текст: непосредственный; Хобсбаум Эрик. Нации и национализм после 1780 года. Москва: Алетейя, 1998. 305 с. Текст: непосредственный; Тишков В. А. Вступительное слово // Национальная политика в Российской Федерации: материалы международной научно-практической конференции (Липки, сентябрь 1992 г.). Москва: Наука, 1993. 184 с. Текст: непосредственный;
- Народы России: энциклопедия. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1994. 479 с. Текст: непосредственный;
- Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. Москва: Изд-во РГГУ, 1999. 143 с. Текст: непосредственный;
- Научные исследования в области этничности, межнациональных отношений и истории национальной политики: материалы сессии Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений (Москва, 19 декабря 2017 г.) / составитель Б. А. Синанов; под редакцией В. А. Тишкова. Москва: ИЭА РАН, 2018. 315 с. Текст: непосредственный.
- Буряты в этнополитическом пространстве России: от империи до федерации / Б. В. Базаров, М. Н. Балдано, О. В. Бураева [и др.]. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. 320 с. Текст: непосредственный.