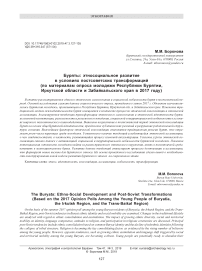Буряты: этносоциальное развитие в условиях постсоветских трансформаций (по материалам опроса молодежи Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в 2017 году)
Автор: Боронова М.М.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сдвиги в этническом самосознании и социальной мобильности бурят в постсоветский период. Основой исследования служат данные социологического опроса, проведенного летом 2017 г. Объектом изучения являлась бурятская молодежь, проживающая в Республике Бурятии, Иркутской обл. и Забайкальском крае. Изменение традиционной модели жизнедеятельности бурят освещается в контексте процессов этнической консолидации и этнической ассимиляции. Анализируются тенденции трансформации этнического самосознания и этнической идентичности бурят, их языковой компетенции, религиозности и религиозного поведения, социальной и территориальной мобильности в условиях широкого полиэтнического взаимодействия. Выявлены возрастание в постсоветский период этнической консолидации бурят на основе общебурятской идентичности, преодоление субэтническихразличий и разрушение родоплеменной структуры сознания. Важнейшим фактором этнической консолидации становится традиционная религия бурят, что отражает рост числа верующих среди молодежи. Установлено наличие тенденций углубляющейся этнической ассимиляции, о чем свидетельствует, в частности, развивающийся процесс языковой аккультурации. Усиление угрозы этнической ассимиляции связано также с активизацией социальной и территориальной мобильности бурятской молодежи. Показана потенциальная готовность молодежи выйти за рамки привычного этнического окружения, жить в полиэтничной среде, вступать в межнациональные браки. Развитие данных тенденций стимулирует процессы деэтнизации и ассимиляции, что формирует новые вызовы для бурятского этноса. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходимости конструирования новой модели развития бурятского этноса на современном этапе.
Этнос, идентичность, консолидация, ассимиляция, мобильность, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/145145948
IDR: 145145948 | УДК: 39+316.347 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.127-135
Текст научной статьи Буряты: этносоциальное развитие в условиях постсоветских трансформаций (по материалам опроса молодежи Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в 2017 году)
Распад Советского Союза коренным образом изменил жизнь бурят, как и других народов, входивших в состав многонационального государства. В постсоветское время в условиях глубокого кризиса в числе других обострились межнациональные и межэтнические противоречия. Сегодня мало кто сомневается в том, что этнический фактор играет важнейшую роль в общественных процессах и способен быть катализатором многих социальных потрясений. Тенденция возрастания его значимости в современной жизни стимулирует интерес исследователей к проблемам развития этносов.
В научной литературе представлено много теорий этнического феномена. Они различаются, как правило, по подходам, которые основаны на объективно-субъективной трактовке его понимания. С позиции примордиалистского подхода понятие этнос и все, что с ним связано, рассматривается в трудах Ю.В. Бромлея [1983], В.И. Козлова [1982] и других советских ученых. Инструменталистский подход к пониманию данного концепта получил отражение в работах Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дробижевой [2014], М.Н. Губогло [1998], широко использующих социологические методы исследования. Конструктивистский подход к этничности базируется на отрицании объективных оснований этнической идентичности, на первый план выдвигается исключительно ее субъективный определитель. Наиболее активным сторонником данного подхода в современной этнологии является В.А. Тишков [2003]. Отметим, что, несмотря на разницу во взглядах, большая часть современных исследователей полагает, что дальнейшую разработку методологических основ для изучения этнического феномена следует вести с учетом единства объективных и субъективных составляющих. Разделяя в целом данный методологический подход, мы считаем наиболее продуктивным изучение процессов этносоциального развития бурят на современном этапе с позиций примордиалистской концепции, о чем свидетельствуют данные проведенного исследования.
Бурятская этническая система формировалась в процессе исторического развития монголоязычных племен в границах Российского государства с XVII в. На ранних этапах истории в составе Русского государства монголоязычные племена не являлись единой этнической общностью, их самоидентификация определялась родоплеменной и территориальной принадлежностью.
Наиболее крупными были этнические образования эхи-ритов, булагатов, хори, хонгодоров, которые занимали территории Забайкалья и Прибайкалья. Со временем под влиянием политики русской администрации развернулся процесс консолидации монголоязычных племен и формирования новой этносоциальной общности под названием «буряты». Вместе с тем территориально-географические особенности, а также специфика хозяйственно-экономического и социокультурного развития обусловили выделение двух субэтнических образований, известных под названиями «западные» и «восточные» буряты.
Проблемы бурятского этноса и этнического бытия изучались многими исследователями. В трудах Т.М. Михайлова [1996; 1998], Д.Д. Нимаева [1988], Б.Р. Зориктуева [2011], Р.П. Сыденовой [2003], В.С. Ханхараева [2000] с позиций примордиалистской концепции освещались разные стороны этносоциального развития бурятского народа. С точки зрения конструктивистского подхода состояние бурятской этнич-ности в контексте социокультурной модернизации рассматривали Т.Д. Скрынникова, С.Д. Батомункуев, П.К. Варнавский [2004], Д.Д. Амоголонова, И.Э. Елаева [2005]. На основе методов социологического анализа проблемы бурятской идентичности в широком поле межэтнического взаимодействия исследовали Д.Л. Хилханов [2005], М.С. Васильева, Т.Ц. Дугарова [2007] и другие специалисты.
Усложнение социально-политических процессов и возрастание роли этниче ского фактора в современном мире, безусловно, увеличивают потребность в проведении конкретно-прикладных исследований. В данной статье предпринята попытка выявить главные трансформации в духовной и социальной жизни бурят в постсоветский период. Основой работы послужили материалы социологического опроса, проведенного летом 2017 г. в трех административнотерриториальных субъектах Российской Федерации, где компактно проживает бурятское население, – Республике Бурятии, Иркутской обл. и Забайкальском крае. Объектом изучения стала бурятская молодежь в возрасте от 20 до 35 лет, поскольку эта возрастная группа является наиболее активной, социально мобильной частью этноса, чутко воспринимающей общественные инновации, в частности, в сфере этнического бытия.
Для проведения исследования были разработаны: а) анкета, в которую вошли вопросы, касающиеся самоидентификации, вероисповедания, межнациональ- ных отношений, этнокультурного развития, стратегии социального поведения; б) вопросник для углубленного изучения качественных параметров рассматриваемых этнических характеристик. В процессе анализа использовались историко-сравнительный, историкогенетический, структурный, абстрактно-логический, а также социологический методы. Каждый из них имел свою область применения в обработке, систематизации и обобщении материала. Основные эмпирические данные для подготовки статьи были получены в результате анкетирования 350 респондентов: в г. Улан-Удэ – 100 чел., в сельских районах Республики Бурятии – 150, Иркутской обл. – 50, Забайкальском крае – 50 чел.
Среди опрошенных мужчины составляли 52,55 %, женщины – 47,45 %. Респондентов в возрасте 20–25 лет насчитывалось 58,16 %; 26–30 лет – 28,93; 31–35 лет – 12,91 %. В числе анкетируемых было 57,06 % проживавших в сельской местности, 42,94 % – в городе. Лица со средним образованием составили 27,93 %, со средним специальным образованием – 28,83, с высшим – 43,24 %. По занятости респонденты распределились следующим образом: работники бюджетной сферы – 42,95 %, индивидуальные предприниматели – 13,51, безработные – 4,80, учащиеся системы высшего профессионального образования – 35,44, учащиеся системы среднего профессионального образования – 12,31 %. Следует отметить, что часть из них совмещала трудовую деятельность и обучение в высших и средних специальных учебных заведениях.
Социально-демографические сдвиги
Развал советской социально-политической системы и переход к новой модели общественного устройства коренным образом изменили условия жизнедеятельности этноса. Политика «шоковой капитализации», фронтального, одномоментного перехода к рынку привела к глубочайшему кризису в российской экономике. В Бурятии из 238 промышленных предприятий, действовавших накануне распада СССР, остались «на плаву» лишь единицы [Халбаева-Боронова, 2005, с. 88]. В результате фактически был парализован индустриально-аграрный комплекс республики, который создавался многие десятилетия.
Переход к рынку сопровождался резким падением уровня жизни большинства населения, что вызвало ухудшение демографической ситуации в регионе. Доминирующей тенденцией в демографических процессах в Бурятии в 1990–2000-х гг. стала убыль населения. Важно отметить, что неблагоприятные демографические тенденции в постсоветский период в меньшей степени затронули бурятский этнос. В отличие от русского населения, несмотря на снижение темпов естественного прироста, численность бурят в республике не сокращалась, а продолжала расти. Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала увеличение численности бурят в республике на 37 314 чел., или на 14,9 %, по сравнению с данными переписи 1989 г. Удельный вес представителей титульной нации (буряты) вырос с 24 до 29,5 % (подсчитано по данным: [Население Республики Бурятия…, 2015, с. 17]). Во многом это было обеспечено высокой рождаемостью у бурят, особенно в сельской местности, и притоком в республику этнических бурят из соседних регионов, прежде всего из Иркутской обл. и Забайкальского края.
Важнейшая черта социально-демографического развития бурят в начале XXI в. – увеличение в составе этноса численности городских жителей. Кризис аграрного производства после разрушения колхозносовхозной системы повлек отток населения из деревни в город. Об этом свидетельствуют материалы переписей населения: если в 1989 г. доля горожан в составе бурят составляла 45 %, в 2002 г. – 48,5, то в 2010 г. она достигла 51,3 % [Буряты…, 1996, с. 10; Ханхара-ев, 2016, с. 87]. Таким образом, развиваясь по модели «догоняющей модернизации», бурятский этнос впервые в своей истории стал городской нацией.
Этническая идентичность
Этническая самоидентификация бурят имеет иерархическую структуру: родоплеменной, субэтнический и общеэтнический уровни. На разных ступенях исторического развития преобладал тот или иной уровень самосознания этноса. Исследователи отмечают, что в постсоветский период на самоопределение бурят этнический фактор оказывает большее влияние, чем религиозный, гражданский или региональный [Межнациональные и конфессиональные вопросы Бурятии…, 2008, с. 22].
Усиление роли этнического фактора в формировании самосознания бурят в значительной мере связано с актуализацией проблемы выживания этноса в условиях радикальных общественных перемен. После распада СССР, согласно данным социологических опросов в трех субъектах Российской Федерации, возрос общеэтнический уровень самосознания бурят. На вопрос: «кем Вы, прежде всего, себя считаете?» 57,36 % респондентов ответили «я – бурят», 19,82 % – «я – представитель своего племени (эхирит, булагат, хори и т.д.)», 22,52 % – «я – россиянин», 0,3 % затруднились ответить.
Общебурятская идентичность доминирует в ответах респондентов всех территориально-административных образований РФ – Республики Бурятии, Иркутской обл. и Забайкальского края. Это свидетельству- ет о дальнейшей консолидации бурятского народа, постепенном преодолении субэтнических различий, разрушении традиционной родоплеменной структуры сознания. Вместе с тем нельзя не отметить сохранение определенных различий в темпах развития данных тенденций у бурят, проживающих в Иркутской обл. и Забайкальском крае. В Иркутской обл., где вследствие исторических обстоятельств модернизационные процессы протекали более интенсивно, этническое самосознание бурят подверглось большей трансформации, чем у их собратьев в Забайкалье. Здесь ввиду более слабого влияния индустриальной культуры на местное бурятское население этнические формы бытия и сознания испытали меньше разрушений. Поэтому бурятская молодежь в Забайкальском крае чаще выбирает родоплеменную идентичность (2,10 %), чем в Иркутской обл. (0,60 %). Это доказывает, что носителями традиционной этничности в большей степени являются восточные буряты. Западные буряты оказались в условиях более глубокой и масштабной аккультурации и деэтнизации. Следует отметить, что в условиях подъема национального самосознания бурят имели место попытки конструирования новых концептов этничности, основанных на культурно-генетических связях бурят с монгольскими народами. Так, известный ученый-монголовед Ш.Б. Чимитдоржиев предлагал вернуть народу его историческое название «бурят-монголы» [2004, с. 65]. Возврат к историческому этнониму, как справедливо отмечает Д.Д. Амого-лонова, не предполагал возрождение панмонголизма и распространение сепаратистских настроений [2006, с. 137]. Попытки конструировать новую бурятскую этничность на общемонгольской основе не получили официальной государственной поддержки. Это не позволило интеллектуальной элите продвинуть свои идеи в широкие народные массы и каким-либо серьезным образом повлиять на этническое самосознание бурят.
Таким образом, при сохранении некоторых территориальных различий, современный бурят позиционирует себя прежде всего как представитель единого этноса. Сегодня, по нашему мнению, можно констатировать преодоление родоплеменного центризма в самосознании бурят. Буряты не перестали отождествлять себя с представителями своего рода и племени, однако родоплеменные различия уже не играют определяющей роли ни в мировоззрении, ни в общественной практике этноса.
В постсоветский период значительно активизировались внутриэтнические связи между бурятами, проживающими на разных территориях. Центром этнической консолидации стала Республика Бурятия и ее столица – г. Улан-Удэ. Именно здесь сосредоточены основные этнокультурные центры и социально-политические институты бурятского народа. Во многом благодаря деятельности Народного Хурала Республики Бурятии, Всебурятской ассоциации развития культуры, Центрального духовного управления буддистов России и других организаций буряты – жители Иркутской обл. и Забайкальского края – стали активно участвовать в общебурятских мероприятиях. Одним из наиболее популярных стал международный Все-бурятский фестиваль «Алтаргана», на который съезжаются буряты, проживающие не только в России, но и в Китае, Монголии и других странах.
Таким образом, Республика Бурятия и ее столица сегодня являются зоной этнического комфорта, центром общебурятской консолидации. Сюда направлены основные миграционные потоки бурятского населения. В республике объективно сложились наиболее благоприятные условия для развития этноса. Здесь, как отмечалось, сосредоточены основные социальнокультурные учреждения (театры, музеи, вузы, религиозные центры и т.д.), которые обеспечивают развитие культуры, языка, религии и традиций бурятского народа. На соседних территориях, где буряты не имеют своей автономии, процессам этнической ассимиляции, аккультурации объективно способствуют система административно-хозяйственного управления, образования, СМИ, которые функционируют в основном на русском языке.
Этническая консолидация активизирует стирание субэтнических различий в сознании бурят. Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что в Республике Бурятии и в двух бывших бурятских национальных округах* большая часть молодежи не делит свой этнос на восточных и западных: 76,88 % респондентов считают, что буряты – единый народ. При этом в Иркутской обл. и Забайкальском крае данный показатель выше среднего и составляет 87,50 и 87,23 % соответственно. Очевидно, что субэтнические различия, как и родоплеменная дифференциация, в самосознании бурят уходят в прошлое, уступая место общеэтнической идентификации. Решающее значение при определении этнической идентичности у бурят, как и у многих других народов России, имеют кровно-родственные связи. Так, на вопрос: «почему Вы считаете себя бурятом?» 51,65 % респондентов ответили, что их национальность определена родителями, т.е. родством по крови; 20,72 % – воспитанием и 30,93 % – самосознанием. При этом некоторые из анкетируемых выбирали более одного маркера, определяющего их этническую идентичность. Например, наряду с кровным родством они отмечали систему воспитания, которая, в свою очередь, оказывает большое влияние на процесс формирования самосознания человека. Таким образом, в отличие от населения многих стран Западной Европы и Северной Америки, где ввиду интенсивных межэтнических контактов и широкого распространения смешанных браков этничность превратилась в некий умозрительный конструкт, у бурят она во многом определяется в ключе традиционного примордиализма.
Языковая ситуация
Важнейшим фактором этнического самосознания является общность языка. По мнению ряда исследователей, сохранение и развитие нации прежде всего связано с сохранением и функционированием ее языка [Ошоров, 1996, с. 117]. Во многом разделяя данную точку зрения, мы вынуждены констатировать, что в настоящее время бурятский язык, к сожалению, не является фактором этнической консолидации. В 2002 г. по решению ЮНЕСКО он был занесен в Красную книгу исчезающих языков.
Современная ситуация с бурятским языком – это наследие недавнего советского прошлого, когда он был фактически вытеснен из сферы публичной коммуникации. В начале 1970-х гг. во всех бурятских школах обучение было переведено на русский язык. Одновременно происходило сокращение издания газет, журналов и книг на бурятском языке, радио-и телепередач.
За десятилетия языковой аккультурации выросло не одно поколение т.н. русскоязычных бурят, которые крайне слабо или вовсе не владеют родным языком. Снижение практической значимости бурятского языка в повседневной жизни привело к тому, что часть бурятского населения, особенно молодые люди, утратила родной язык. Стремясь быть успешными в русскоязычном государстве буряты с детских лет старались хорошо овладеть русским языком, зачастую в ущерб родному. Родители, в т.ч. жители сельской местности, желая, чтобы их дети не испытывали трудностей в учебе, при поступлении в учебные заведения, в целом были успешными в современном российском социуме, добровольно переходили на использование русского языка в семейном кругу. В результате современные молодые буряты нередко испытывают дискомфорт и даже некоторую ущербность от незнания или плохого знания родного языка. Не случайно многим бурятским семьям знакома ситуация, когда повзрослевшие дети упрекают родителей в том, что в детстве их не обучали родному языку.
В постсоветский период в условиях демократизации общества, роста самосознания бурят государством были предприняты усилия по улучшению языковой ситуации в республике. В 1992 г. принимается
Закон о языке, в соответствии с которым в Республике Бурятии действуют два государственных языка – русский и бурятский. Это создает более благоприятные условия для возрождения бурятского языка, расширения сферы его функционирования и применения. С 1987 г. ведется обучение детей бурятскому языку в школах. Для популяризации бурятского языка, подъема его престижа в обществе привлечены СМИ и издательства. В 1991 г. в Бурятском государственном университете был открыт факультет бурятской филологии для подготовки педагогических кадров.
О повышении интереса к родному языку свидетельствует высокий конкурс при поступлении в образовательные учреждения с углубленным изучением бурятского языка и культуры. Одним из таких учреждений является Бурятский республиканский лицей-интернат, где уже более 10–15 лет конкурс на одно место составляет не менее 8 чел. [Васильева, Дугаро-ва, 2007, с. 79]. Отдавая детей в подобные образовательные учреждения, старшее поколение стремится исправить допущенные ошибки и повысить языковую компетентность молодежи.
Предпринятые усилия пока недостаточны для восстановления общественного статуса бурятского языка. По данным прикладных социологических исследований 2005 и 2007 гг., на работе и по месту учебы используют язык своего народа 17,4 % бурят, в общественных местах (магазины, больницы и т.д.) – 10,8, в кругу семьи – 46,9, в общении с друзьями и знакомыми – 32,7 %. При этом, как отмечают исследователи, 58,1 % бурят общаются только на русском языке [Межнациональные и конфессиональные вопросы Бурятии…, 2008, с. 33–34].
Таким образом, бурятский язык, вопреки официальному билингвизму, по-прежнему находится вне сферы массовой общественной коммуникации. Непростую языковую ситуацию отражают данные социологического опроса, проведенного среди бурятской молодежи в трех субъектах РФ. На вопрос о владении бурятским языком 30,33 % респондентов ответили: «понимаю и говорю», 30,03 % – «понимаю, говорю и читаю», 20,72 % – «понимаю, но не говорю», 18,92 % – «не владею». Из тех, кто не владеет родным языком, 12,61 % проживают в городах, а 6,31 % – в сельской местности, т.е. данный показатель почти в 2 раза выше среди молодых горожан. Среди респондентов, не владеющих родным языком, жители Республики Бурятии составляли 95,24 %; Иркутской обл. – 4,76 %; в Забайкальском крае таковых не выявлено. Это свидетельствует о том, что наибольшей языковой аккультурации подверглось городское население Республики Бурятия, наименьшей – аграрное бурятское население Забайкальского края.
Анализ уровня языковой компетенции позволяет сделать вывод о том, что значительная часть бурят- ской молодежи не владеет или плохо владеет прежде всего литературным бурятским языком. В советский период он был фактически исключен из сферы образования, поэтому значительная часть современных бурят, хорошо владеющих русской грамотой, не может читать и писать на родном языке. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что, несмотря на институциональную поддержку бурятского языка в современной России, его функционирование по-прежнему крайне ограничено. Процесс языковой аккультурации продолжает развиваться. Для преодоления его последствий требуются более активные усилия со стороны государства и прежде всего самого этноса, осознающего значимость родного языка для сохранения и развития нации.
Религиозный ренессанс
Новая тенденция постсоветского развития – возрастание роли религиозного фактора. После десятилетий атеизма и гонений религия не просто возвращается в общественную жизнь, но и становится духовным стержнем этнического самосознания бурят. В условиях массовой языковой русификации традиционная религия бурят (шаманизм и буддизм) приобретает значение главного этноконсолидирующего фактора.
Республика Бурятия является одним из исторических центров буддизма в России. Помимо буддизма основу местного религиозного комплекса составляют шаманизм и православие. В постсоветский период заметно активизировалась деятельность иных религиозных объединений, прежде всего протестантских. Этому во многом способствовала политическая обстановка, сложившаяся вследствие беспрецедентной открытости постсоветской России Западу в 1990-х – начале 2000-х гг. Несмотря на отсутствие точных данных по численности верующих-неофитов даже у государственных органов, занимающихся делами религии и церкви, очевидно, что активный прозелитизм этих организаций, как отмечают некоторые исследователи, не может не представлять потенциальную угрозу для позиций традиционных конфессий [Бадмаев и др., 2006, с. 122–123]. Разделяя в целом данное мнение, мы не можем не отметить, что в наши дни буряты являются в основной своей массе по-прежнему приверженцами традиций буддизма и шаманизма. Согласно материалам опроса, большая часть респондентов из числа бурятской молодежи считает себя верующими: 73,87 % – исповедуют буддизм, 22,52 % – шаманизм. Атеистами себя назвали 5,41 % молодых бурят, затруднились определить свое вероисповедание 1,80 %. Верующих буддистов больше в Республике Бурятия и Забайкальском крае: 58,86 и 13,51 % соответственно.
Наибольшая доля верующих-шаманистов отмечена в Иркутской обл. – 11,11 %; буддистами здесь считают себя лишь 1,50 % опрошенных. Это объясняется тем, что исторически буддизм не успел получить широкого распространения в Западной Бурятии, поэтому традиционный шаманизм сохранил свое влияние в регионе. В Республике Бурятии шаманизм исповедуют 9,61 % верующих, в Забайкальском крае – 1,80 %.
Важно отметить, что часть респондентов называют себя последователями как буддизма, так и шаманизма. Подобный синкретизм религиозного сознания характерен для той части бурят, чьи предки мигрировали в Бурятию из соседних регионов, прежде всего из Иркутской обл. Как отмечают респонденты, являясь верующими-буддистами, они не отрекаются от веры своих предков – шаманизма. Существование подобного «двоеверия» во многом объясняется позицией буддийской церкви, которая в отличие от других конфессий характеризуется высокой степенью толерантности к иным вероисповеданиям, при условии их не враждебного отношения к религиозно-философскому учению Будды. Более того, в среде буддийских монахов бытует мнение, что верующим, ведущим свою родословную от шаманов, не следует забывать религию своих предков.
Таким образом, рост числа верующих среди молодежи свидетельствует о возрастания роли религии на современном этапе. Религия становится активным участником общественных процессов, формирует новые культурно-бытовые традиции, является духовно-психологической опорой для людей в повседневной жизни. Молодые люди, проживающие в сельской местности, чаще посещает культовые места, чем их сверстники в городе. В гендерном плане большей религиозно стью отличаются женщины, как в городе, так и в деревне.
Вместе с тем, на наш взгляд, не следует преувеличивать степень и глубину религиозности молодого поколения. Как показывают данные проведенного исследования, для молодежи характерен в основном утилитарно-прагматический подход к религии. Так, на вопрос: «религиозны ли Вы в повседневной жизни?» 26,73 % респондентов ответили отрицательно, 33,33 % дали положительный ответ, 0,6 % – затруднились ответить, а 39,34 % – признали, что вспоминают о религии, когда в их жизни возникают проблемы. Очевидно, что десекуляризация общественного сознания в постсоветский период не привела к широкому внедрению религиозной этики в повседневную мирскую практику. Большинство населения, в т.ч. молодые люди, имеет весьма скудные знания в области догматических основ вероисповедания, не всегда может объяснить смысл ритуально-обрядовых действий, отличается упрощенно-потребительским отношением к религии. Вместе с тем следует подчеркнуть, что возрастание религиозного фактора в общественной жизни способствует формированию толерантности к верованиям разных народов, что является одной из основ социальной стабильности в мультикультур-ном сообществе. На наш взгляд, сегодня можно говорить о некой конвергенции религиозного поведения населения, особенно в Республике Бурятии. Здесь местное русское население посещает дацаны и центры шаманизма, а бурятское – отмечает основные праздники православного календаря – Рождество, Крещение, Пасху. И те, и другие считают, что религия играет позитивную роль, т.к. способствует формированию терпимого и доброго отношения друг к другу в семье и в обществе [Межнациональные и конфессиональные вопросы Бурятии…, 2008, с. 64].
Социальнаяи территориальная мобильность
Радикальные общественные перемены постсоветского периода оказывают глубокое влияние на все стороны этнического бытия. Пройдя через коллективизацию, индустриализацию, урбанизацию в советский период, бурятский народ накопил большой опыт адаптации к нетрадиционным для себя формам общественной практики и в настоящее время активно осваивает рыночную экономику и рыночные отношения. Молодежь, как наиболее активная часть этноса, демонстрирует новые тенденции социальной мобильности.
Данные проведенного исследования показывают потенциальную готовность молодых людей вести собственный бизнес и быть экономически независимыми от государства. Это свидетельствует о глубоких трансформациях в общественном сознании, за которыми последуют изменения на практике. На вопрос «кем Вы видите себя в будущем?» 34,23 % ответили: «работником государственно-бюджетной сферы», 25,53 % – «бизнесменом», 21,02 % – «работником в частной компании», 18,02 % – «чиновником на государственной службе», 1,20 % затруднились с ответом на поставленный вопрос.
В целом у этноса в условиях перехода к рынку формируется новая модель социального поведения. В связи с этим нельзя не отметить возросшую миграционную мобильность молодежи. В XXI в. в отличие от начала XX в. буряты уже не боятся внешнего мира, готовы активно интегрироваться в него, осваивать новые общественные практики, адаптироваться и развиваться в иноэтничной среде. Объективной основой для этого является высокий образовательный уровень бурятского населения. По данным статистики, по удельному весу лиц с высшим образованием среди народов России буряты находились на втором месте вместе с осетинами, уступая лишь евреям , пресс-релиз «Уровень образования населения отдельных национальностей Республики Бурятии»).
О наличии миграционных настроений среди молодежи свидетельствуют данные проведенного опроса. Так, на вопрос: «где Вы хотели бы жить в будущем?» 35,44 % респондентов ответили: «на малой родине», 48,05 % – «в любом регионе РФ», 15,92 % – «за пределами РФ», 0,59 % затруднились ответить на поставленный вопрос. Среди тех, кто готов покинуть место нынешнего проживания, преобладают сельские жители (35,74 %), которые особенно страдают от развала советской аграрной экономики, отсутствия рабочих мест и обусловленного этим снижения уровня жизни в деревне.
Причинами потенциальной миграции молодежи являются стремление получить образование в ведущих учебных заведениях страны и за рубежом – 19,22 %, поиск более высокооплачиваемой работы – 38,14, желание быть самостоятельным и приобрести новый жизненный опыт – 39,04 %; не указали причин своего желания сменить место жительства 3,6 % опрошенных. Высокая миграционная подвижность формирует новые черты в менталитете молодых бурят. Усиливается процесс разрушения традиционной родоплеменной структуры сознания, ослабевает привязанность к исторической малой родине, углубляется нацеленность на межэтническое общение.
При выборе жизненной стратегии большая часть молодых бурят рассчитывают прежде всего на себя, свои силы и возможности, а не на поддержку влиятельных родственников и земляков. На вопрос: «необходима ли Вам поддержка влиятельных земляков для успешной деловой карьеры?» 59,76 % участников опроса дали отрицательный ответ, 39,64 % – ответили утвердительно, 0,6 % затруднились с ответом. Как видим, зависимость от кланово-земляческих связей постепенно уходит в прошлое, амбициозная бурятская молодежь стремится самостоятельно строить свою жизнь и карьеру.
О высокой степени этнической толерантности молодого поколения, готовно сти выйти за рамки этнической общности и жить в полиэтничной среде свидетельствует потенциальная готовность вступать в межнациональные браки. Для 73,87 % респондентов национальность супруга не имеет значение, 0,3 % – не смогли ответить и лишь 25,83 % – признали, что им комфортнее общаться с представителями своего этноса.
Высокая степень включенно сти бурят в иноэт-ничную среду ускоряет процесс трансформации эт-ничности. Появляется новый тип «модернизированного» бурята, который сочетает в своем сознании традиционную ментальность и современное миро- воззрение. Как правило, это хорошо образованные молодые профессионалы, отличающиеся высокой конкурентноспособностью не только на общероссийском, но и на международном уровне.
Полиэтничная среда, как известно, стимулирует процесс ассимиляции и деэтнизации. Вместе с тем, как отмечают некоторые ученые, жизнь в инокультурном окружении зачастую сопровождается активизацией этнического самосознания и актуализацией земляческих связей, что подталкивает к созданию бурятских центров за пределами ареала этноса [Скрын-никова, Батомункуев, Варнавский, 2004, с. 14]. Такие центры и землячества существуют практически везде, где имеются диаспоры бурят. Они становятся «островками» малой родины, местом этнического общения, передачи культурного наследия новым поколениям. Таким образом, вдали от исторической родины происходит не только ассимиляция этноса, но и формирование современной бурятской идентичности, которая рождается не в результате включенности в этническую общность, а вследствие территориальной мобильности и исключения из национальной среды [Васильева, Дугарова, 2007, с. 76].
Заключение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что процессы этносоциального развития бурят в постсоветской России определяются тенденциями усиления общеэтнической консолидации при одновременном нарастании угроз дальнейшей этнической ассимиляции. Их развитие и взаимодействие определяют основной вектор этнокультурной модернизации бурят на современном этапе.
В постсоветский период происходит дальнейшее формирование этнической идентичности на общенациональной основе, значительно возрастает роль религиозного фактора в этнокультурном развитии, активизируется социальная и территориальная мобильно сть. В то же время в социокультурном развитии этноса немало проблем, требующих своего решения. Одной из самых сложных является проблема восстановления языковой компетенции бурят, особенно молодого поколения. Для этого требуется не только поддержка со стороны государства, но и, прежде всего, усилия самого этноса, о сознающего значимость родного языка для сохранения и развития нации.
Практика свидетельствует, что современная бурятская молодежь выбирает активную жизненную стратегию. Буряты интегрируются в современный мир, включаются в рыночные отношения. При этом они продолжают оставаться «азиатами», не утратившими свою этнокультурную самобытность.
В начале XXI в., как и в начале XX в., буряты должны встраиваться в новую для них социокультурную систему, осваивать новые формы социальной жизни и хозяйственной практики. Для них это очередной исторический вызов, требующий внутренней мобилизации и выработки новой стратегии этнического развития. Данная стратегия, на наш взгляд, должна соединить в себе две в известном смысле противоположные парадигмы: модернизационную и традиционную. Для их практической реализации необходимо диалектическое взаимодействие традиционных и современных форм этнического бытия, что позволит этносу сохранить свою идентичность и успешно развиваться в стремительно меняющемся мире.
Статья подготовлена на средства гранта на проведение инициативных научных исследований Бурятского государственного университета 2017 г. № 16-09-4401. В сборе и обработке данных для исследования принимали участие студенты Бурятского государственного университета, а также сотрудники отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии БНЦ СО РАН; специалисты социологической службы «Эйдос» оказали помощь в подготовке рабочих материалов. Автор выражает благодарность всем, кто участвовал в выполнении данного исследования.
Список литературы Буряты: этносоциальное развитие в условиях постсоветских трансформаций (по материалам опроса молодежи Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в 2017 году)
- Амоголонова Д.Д. Бурятская идентичность в условиях переходного периода в России // История и культура народов Сибири, стран Центральной и Восточной Азии: Батуевские чтения: мат-лы II Междунар. науч.-практич. конф. – Улан-Удэ, 2006. – С. 136–142.
- Амоголонова Д.Д., Елаева И.Э., Скрынникова Т.Д. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (постсоветский период). – Иркутск: Радиан, 2005. – 245 с.
- Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Пройденные пути и некоторые проблемы современной этносоциологии // Социол. исслед. – 2014. – № 7. – С. 102–112.
- Бадмаев А.А., Адыгбай Ч.О., Бурнаков В.А., Маншеев Д.М. Протестантизм и народы Южной Сибири: история и современность. – Новосибирск: РИЦ Новосиб. гос. ун-та, 2006. – 168 с.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 412 с.
- Буряты в зеркале статистики. – Улан-Удэ: Госкомстат РБ, 1996. – 28 с.
- Васильева М.С., Дугарова Т.Ц. Буряты в новом столетии: социально-экологический аспект. – Улан-Удэ: Изд-воБурят. гос. ун-та, 2007. – 184 с.
- Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации. – М.: Языки славянской культуры, 1998. – 813 с.
- Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. – М.: Новый хронограф, 2013. – 226 с.
- Зориктуев Б.Р. Актуальные проблемы этнической истории монголов и бурят. – М.: Вост. лит., 2011. – 280 с.
- Козлов В.И. Национальности СССР. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 303 с.
- Межнациональные и конфессиональные вопросы Бурятии в свете общественного мнения (по материалам прикладных социологических исследований 2005 г. и 2007 г.) / Ц.Б. Будаева, Н.Ц. Хантургаева, Д.Ц. Будаева и др. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2008. – 127 с.
- Михайлов Т.М. Национальное самосознание и менталитет бурят // Современное положение бурятского народа и перспективы его развития: мат-лы науч.-практич. конф. – Улан-Удэ, 1996. – С. 18–26.
- Михайлов Т.М. Бурятский этнос в свете современных социальных изменений // Республика Бурятия – государство в составе Российской Федерации (к 75-летию образования). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998. – С. 130–145.
- Население Республики Бурятия в зеркале статистики: от переписи к переписи: статист. сб. – Улан-Удэ: Бурятстат, 2015. – 298 с.
- Нимаев Д.Д. Проблемы этногенеза бурят. – Новосибирск: Наука, 1988. – 168 с.
- Ошоров Д. Язык наш родной… // Современное положение бурятского народа и перспективы его развития: мат-лы науч.-практич. конф. – Улан-Удэ, 1996. – С. 117–120.
- Скрынникова Т.Д., Батомункуев С.Д., Варнавский П.К. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (советский период). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. – 215 с.
- Сыденова Р.П. Улусная община западных бурят (вторая половина XIX – начало XX в.) – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. – 129 с.
- Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – 544 с.
- Халбаева-Боронова М.М. Бурятия: проблемы комплексного развития региона (исторический опыт исследования). 1960–1990 гг. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2005. – 192 с.
- Ханхараев В.С. Буряты в XVII–XVIII вв.: демографическая история и этнические процессы. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 147 с.
- Ханхараев В.С. Этнодемографические процессы в Бурятии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. – 105 с.
- Хилханов Д.Л. Этническая идентичность и этносоциальные процессы в Бурятии: история и современность. – Улан-Удэ: Изд.-полиграф. комплекс Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств, 2005. – 204 с.
- Чимитдоржиев Ш.Б. Кто мы, бурят-монголы? – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2004. – 129 с.