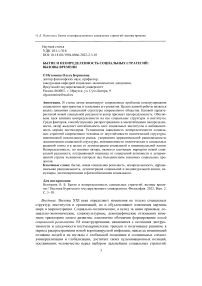Бытие и неопределенность социальных стратегий: вызовы времени
Автор: Истомина Ольга Борисовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует современные проблемы конструирования социального пространства и тенденции его развития. Целью данной работы является анализ динамики социальной структуры современного общества. Базовой характеристикой новой социальной реальности автор признает неопределенность. Обоснована идея влияния неопределенности на все социальные структуры и институты. Среди факторов, способствующих распространению и масштабизации неопределенности, автор выделяет нестабильность всех социальных институтов и амбивалентность морали постмодерна. Установлена зависимость неопределенности социальных стратегий современного человека от неустойчивости политической структуры, маятниковой волатильности рынка, укоренения иррациональной рациональности, декомпозиции социальной структуры, имитационности политических и социальных решений элиты и в целом от дезинтеграции социальной и индивидуальной жизни. Неопределенность, по мнению автора, является ключевым маркером новой социальной реальности, отстраняющей индивида от социальной активности и детерминантой утраты человеком контроля над большинством значимых социальных процессов.
Бытие, новая социальная реальность, неопределенность, иррациональная рациональность, дезинтеграция социальной и индивидуальной жизни, симулякры, дестандартизация и флексибилизация социального
Короткий адрес: https://sciup.org/148324502
IDR: 148324502 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.18101/1994-0866-2022-2-3-10
Текст научной статьи Бытие и неопределенность социальных стратегий: вызовы времени
Истомина О. Б. Бытие и неопределенность социальных стратегий: вызовы времени // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. Вып. 2. С. 3‒10.
Введение. Вызовы XXI века определяют изменения не только социальных структур, институтов и организаций, но и обусловливают изменения картины мира и мировоззрения. Социально-политические, а вслед за ними правовые, социально-экономические, социокультурные, демографические отношения изменили траекторию своего развития, однозначно обозначив формирование новой социальной реальности. Её конструирование, начавшееся с осознания деструктивности и упадочности постмодернистских трендов и получившее развитие в период распространения новой коронавирусной инфекции, навсегда изменившей сознание людей и их взгляды о глобальной экономике и «социальных следах» универсализации и глобализации, достигает своих кульминационных позиций, поставивших человечество перед выбором дальнейших социальных стратегий.
Этот выбор крайне затруднителен в силу поиска ключей решения многоаспектной задачи. Основополагающим действием в ее решении является вопрос самоидентификации и построения в соответствии с ним индивидуальной и социальной линии жизни.
Процессы самоидентификации сложны в любое социальное время, а в эпоху перемен, переустройства мирового порядка для обывателя становятся еще более затруднительными. На наш взгляд, разрастание сложности выбора социальных стратегий общественного и индивидуального бытия и демаркации социальных стратегий обусловлено тотальными вызовами тотальной неопределенности .
Общая характеристика социальных выражений неопределенности. Сложность характера социальных изменений объясняется многофакторностью и неоднозначностью признаков формирующейся новой социальной реальности, отличающейся не измеряемыми на текущий момент неопределенностью, неустойчивостью, нестабильностью [подробнее см.: 4; 5; 8; 9]. Данные свойства были характерны уже для типов рациональности постмодерна и значительно актуализировались в ситуации военного конфликта и обострений на мировой политической арене.
Неопределенность характеризует сегодня все социальные институты: уход от однополярности мировой системы кардинальным образом меняет характер и ориентиры всех социальных устоев прошлого. «Тектонические» изменения карты мира обусловливают не просто масштабную динамику социальных процессов, а меняют в том числе нарративы всех геополитических и социокультурных объединений. В условиях глобальной экономики данные изменения приобретают вселенский масштаб и влияют не только на общественные процессы, но и на индивидуальные стратегии обывателя во всех точках мира.
Во многом современные процессы объясняются «социальными следами» уже состоявшихся и даже уходящих социальных явлений, как-то: широкомасштабное распространение типов рациональности постмодернити, глобализация экономики, геополитическое доминирование западной политической доктрины. Думается, что ярким маркером несостоятельности выстроенной мировой модели явилась пандемия 2019 г., к которой, как оказалось, не готовы все системы здравоохранения и модели их регуляции.
Крах национальных экономик в угоду универсальной глобальной экономике в период значительных изменений устоявшихся моделей определил кризисные состояния всех других социальных сфер жизнедеятельности человека. «Постко-видные хвосты» проявляются сейчас и определенно будут проявляться еще длительное время, а под воздействием политического переустройства рушат привычные модели социального поведения, требуют формирования новых стратегий. Обнаруженная неготовность мирового сообщества к противостоянию новым вирусам (как медико-эпидемических, так и политико-эпидемических), сомнения в происхождении данного вируса, ангажированность фармацевтических сообществ, доминирование западной политики над потребностями системы здравоохранения и даже над здравым смыслом, продемонстрировавшее готовность современного общества жертвовать человеческими жизнями ради мнимого политического превосходства, — все это указывает на формирование новой социальной реальности, главным атрибутом которой является анализируемая в данной работе тотальная неопределенность.
Неопределенность как тренд начала XXI в., вызванная кризисами сознания, доминированием гламура над традиционными культурными ценностями, играи-зацией всего социального, подменой виртуального образа всего реально существующего (когда виртуальное становится реальностью), амбивалентностью морали, дегуманизацией и фальсификацией искусства формами эпатажа, сегодня маркирует все социальное пространство в жизни общества и пронизывает в том числе индивидуальные стратегии граждан и влияет на их самочувствие и самоощущение.
Самочувствие индивида, живущего и действующего в условиях неопределенности, не способного построить даже краткосрочные планы, ввиду нестабильности исходных производящих факторов, становится аморфным, апатичным, отстраненным от социальной активности и переживает деструктивные изменения. Выражением данных деструкций в XXI в. чаще всего становятся тотальная депрессия, кризис идентичности, психологическая усталость, аморфность и маргинальность. В своей совокупности данные состояния, опосредованные личными кризисами идентичности индивида и кризисами политического, экономического и социокультурного пространства, выражают манифестацию неврозов, уже ставшую своего рода «визитной карточкой» текущего столетия .
События начала 2022 г. для многих регионов мира актуализировали поле неопределенности и добавили ему синергийный эффект.
Неопределенность фрагментирует социальную действительность: масштабные социальные задачи подменяются личными желаниями, сугубо индивидуальными устремлениями, долгосрочные планы и проекты уступают место краткосрочным задачам. Нарастание скоростей жизни, сменяемость социальных событий по типу новостной ленты в социальных сетях определяют новые образы современности и ментальные установки молодого поколения. Данные социальные привычки и ощущение социального времени, по выражению З. Баумана [1], одновременно становятся и причиной, и следствием фрагментации всех сфер человеческой жизни, ее социального и индивидуально — бытового содержания.
Неопределенность и социальный институт экономики. Социально — экономическая жизнь ведущих экономик мира после Второй мировой войны определила движение в сторону интеграции. Успех советского государства в восстановлении разрушений войны во многом состоялся благодаря союзническим действиям 15 республик. Принцип союзности был перенят европейскими государствами в целях достижения более высоких позиций в экономике, перераспределении рычагов экономического воздействия. Крен в сторону глобальной экономики, управляемой американской доктриной, определил, с одной стороны, успех и экономический подъем ряда европейских экономик, в большей степени Франции и Германии, и вместе с тем обнаружил сложность пролонгирования ее успеха в ситуации изменения политического миропорядка. Кроме того, при отсутствии самостоятельности решений, а также американского протекционизма и санкционной политики каждое государство вынуждено решать свои проблемы самостоятельно. Привычные модели взаимодействия как во внутренней, так и во внешней экономике во всех регионах мира потеряли свою функциональную состоятельность. Каждый участник глобальной экономики сегодня вынужден справляться не только с текущими проблемами, но и с новыми вызовами, обусловленными той самой тотальной неопределенностью.
Неопределенность и политика. Взаимодействие на политической карте мира никогда не было простым. Достижение исполнения позиций договора всегда вызывало затруднения, но все же политические инструменты избирались исходя не только из интересов участников, но и с учетом оценок и социальных прогнозов. Взаимодействие на современной политической арене допускает все те же принципы иррациональности и амбивалентности морали. Во многом ревитализирова-ны принципы макиавеллизма, разрешающего аморальные инструменты в достижении искомой цели. Изменения отразились и на характере дипломатических отношений: дипломатический протокол требовал особого речевого этикета и отношения к дипслужбам. Неопределенность текущей реальности позволяет открыто объявлять о реальной цели политических решений и санкций — вовлечь государство в длительный военный конфликт и обескровить его экономику. Изменения риторики и деструктивная трансформация самого дипломатического дискурса демонстрируют действие неопределенности, сиюминутности решений и выгод без расчета долгосрочных планов на перспективу. Современная политика, подобно бабочке-однодневке, демонстрирует каждодневно новый, еще более неопределенный сценарий, разрушающий привычный уклад всех экономик мира.
Неопределенность и СМИ. Состояние СМИ, их содержание и формы выражения являются продуктом культуры всего общества, его политических устремлений и социальных стратегий. Политический дискурс СМИ имеет свои принципиальные отличия: широта аудитории, стремительная вовлекаемость в обсуждения в силу большой значимости вопросов для всех социальных групп, «способность к манипулированию сознанием, оценочность, универсальность, включенность, высокая покрываемость, способность к распространению власти отправителя на адресат, интенциональность, идеологичность» [3, с. 154].
Кроме того, необходимость аффирмации или негации в политическом речевом контакте детерминирует в условиях неопределенности переход агентов СМИ от объективной реальности к информационной реальности. Иными словами, СМИ реструктурируют социальное пространство, конструируют новую социальную реальность, независимо от того, насколько реальны освещаемые ими события. Руководствуясь принятой на данный момент идеологемой, согласованной с коммерческими интересами, «создаются новые направления политической практики, оказывается воздействие на мировоззрение агентов, принимающих политические решения, порождаются «инфекционные агенты», действия которых направлены на создание и распространение фейка. Информационный террор и сетевой фейк, которые на современном этапе обладают не меньшей эффективностью, чем экономические санкции, дали в современном обществе новый заряд для руморологии и ее форм [3, с. 155].
Полярность оценок политических событий в СМИ формирует недоверие населения, способствует отстранению от социальной активности и разрастанию апатичности сознания и социального действия. Недоверие является еще одной из сторон тотальной неопределенности современности.
Неопределенность и образование [подробнее см. 5] . Как и любой социальный институт, образование является производным от системы социальных норм и форм их трансляции. Дегуманизация и дестандартизация всего социального закономерным образом изменили структуру и содержание образовательного процесса.
Трансляция знания утратила актуальность в силу стремительного устаревания этого знания и распространения инструментов получения мгновенного доступа к информации. Собственно доминирование информации над знанием в эпоху постмодерна и определило изменение образовательных стандартов.
Массовизация и большая доступность образовательных услуг, с одной стороны, и люксеризация образования, с другой, — главные противоречия XXI века. Разность качества систем образования во многом объясняется внедрением принципов экономики в социально значимую сферу образования. Экономические ориентиры укрепили действие постмодернистских взглядов на образование как на сферу услуг, что, в свою очередь, обусловило «укоренение принципов потребления в системе образования, определившее внедрение рыночных механизмов и правил маркетинговых технологий и ее менеджеризм, а также специфические эффективность и калькулируемость рынка образовательных услуг» [5, с. 3].
На наш взгляд, распад традиционных образов образования и укоренение экономических моделей стали триггером для принятия количественной модели в отчетности качества системы образования. Примат численных рейтингов над качественными показателями образовательного успеха девальвирует деятельность педагога, ценность его профессиональных качеств, потенциальную учебную результативность обучающегося и вместе с тем саму систему образования.
Реальные инновационные решения в современном институте образования крайне редки и с лихвой компенсируются действиями, имитирующими модернизацию. Неопределенность в сфере образования реализуется в перманентности реформ, в ежегодно сменяющихся стандартах, в изменении отчетности и документооборота, во всём, кроме содержательного начала, способного обеспечить высокие учебные результаты и готовность к профессиональной деятельности и успешной социализации.
Как говорилось ранее, «новые образы образования носят амбивалентный характер, который проявляется в укоренении принципов потребления, ее менеджеризме, внедрении рыночных механизмов, распространении формальных количественных показателей и рейтинговых значений для оценки качества, дегуманизация образовательного пространства и девальвации самого образования» [5, с. 9].
Неопределенность и искусство. Культурное пространство, являясь одновременно и производным, и производящим всего социального, отчетливее всего отражает социальные изменения.
Постмодернистская реальность, провозгласившая множественный выбор, вариативность суждений, допускающая альтернативную ментальность, порождают разнообразие форм творческого выражения. Плюрализм обусловил избыточность вариантов творческих поисков. По выражению И. А. Антоновой, «сегодня произошел вал творческой продукции, которая не является искусством. Массив произведений, которые рвутся в музеи, галереи, должны найти свое место. Это другие формы человеческого разума, но не искусство… У этих творческих продуктов нет параметров искусства. Это эстетические параметры: красивое — безобразное; этические: добро — зло…». По аналогии можно заключить, что произошел вал не только творческой, но и образовательной продукции. Ее качество, как и задачи, различны. Часто потребитель ориентируется не на качественные образовательные услуги, а формальный допуск к определенному виду работ. Игровая множественность постмодерна разрешает максимализацию предлагаемых вари- антов и в творчестве, и в образовательной парадигме, что обусловливает амплитуду креативных выражений и социально — педагогических исканий [8, с. 53].
Террор псевдокультуры также во многом обусловлен неопределенностью текущей данности. Постпозитивистское «всё дозволено, всё может быть» нашло свое выражение и в искусстве. Эпатаж, калькулируемость, экономический эффект, обращенность к низкому стилю, культивирование физиологического в ущерб духовно-нравственному, сиюминутность массового «признания» — вот проявления неопределенности в сфере искусства. Не имея параметров искусства, подобный творческий продукт борется за роль и статус искусства в современных социальных стратегиях. В условиях неопределенности такие замены становятся реальностью, что усложняет процессы воспитания и инкультурации новых поколений.
Заключение. Неопределенность, охватившая всё жизненное пространство, действительно заставляет менять стратегии и социальные тактики, отказываясь от традиционных образов жизни, от традиционных решений и классических моделей социального поведения, традиционных типов социального взаимодействия. Новые играизированные техники построения диспозиций диктуют новые правила оперативного изменения алгоритма действий в поисках наиболее выгодного шанса «здесь и сейчас». Погоня за этим счастливым шансом и становится смыслополагающим звеном индивидуальных жизненных стратегий.
Дестандартизация и флексибилизация социального вынуждают обывателя из всех инструментов разрешения социальных противоречий и задач делать выбор в пользу методов снятия своих биографических противоречий, а не поиска социально приемлемых и значимых рычагов взаимодействия с обществом. Неопределенность индивидуализированного общества проявляется в ряде социально опасных феноменов, среди них значительные опасения вызывают:
-
— оторванность индивида от социального поля [10];
-
— приоритетность личных выгод над социальными интересами, что в условиях глобальной экономики ставит под угрозу не просто развитие, а даже существование многих региональных экономик и самих регионов мира;
-
— утрата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов;
-
— разрастание неопределенности как в социальных проявлениях, так и в личных стратегиях индивида;
-
— расширение и усиление незащищенности личности в условиях стремительных общественных изменений, контроль и прогнозность которых осложнены;
-
— укоренение краткосрочных планов или вовсе отказ от планирования в силу затруднения верификации прогнозов и сложности их построения из-за стремительности социальных трансформаций;
— ориентация на сиюминутность результатов, их реальную ощутимость, на получение немедленных результатов в ущерб постановке и достижению долгосрочных перспективных целей.
В целом следствием данных социальных явлений становится масштабная дезинтеграция социальной и индивидуальной жизни. Экзистенциальная муль-тисубъектная реальность постмодернистского мировоззрения проявляется в «гиперреальности» ее симулякров [6]. Симулякры третьего типа (в терминологии
Ж. Бодрийяра [2]) проявляются в имитации того, чего нет в распространении фейка, в отказе от аналитической реакции на социальные явления в пользу иллюзорного конструкта, соответствующего решению сиюминутной, малопросчитан-ной выгоды правящей элиты, что в целом способствует нарастанию социальной несправедливости и является мощнейшим стимулятором дестабилизации мирового сообщества.
Очевидно, неопределенность зачастую сопровождается незрелостью управленческих решений и в сочетании с логической незавершенностью социально — политических проектов, их перманентной сменяемостью и текучестью продуцирует разрастание неосмысленности социальных последствий предпринимаемых решений. Симулякры общества потребления находят различные формы выражения, их произвольность не имеет ограничений. Их поливариативность объясняется многообразием «проекций имитации модернизации общества в целом» [7, с. 40].
Социально-экономическая нестабильность в совокупности с давлением иррациональной рациональности постмодернити укореняет деструктивные социальные процессы, обостряет экономические, политические и социокультурные противоречия современного общества.
Список литературы Бытие и неопределенность социальных стратегий: вызовы времени
- Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва: Логос, 2005. 390 с. Текст: непосредственный.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. Москва: Постум, 2015. 240 с. Текст: непосредственный.
- Истомина О. Б. Роль СМИ в политическом дискурсе // Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире: материалы XI Международной научной конференции, 16-19 июня 2016 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. С. 152-157. Текст: непосредственный.
- Истомина О. Б. Современные тенденции трансформации института образования // Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы: материалы VI Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, 22 апреля 2022 г. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2022. С. 62-73. Текст: непосредственный.
- Истомина О. Б. Новые образы образования: социально-философские основания // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. № 1. С. 3-11. Текст: непосредственный.
- Костикова А. А., Коновалова А. Д. Симулякр третьего порядка в современном мире. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simulyakr-tretiego-poryadka-v-sovremennom-mirе (дата обращения: 30.01.2022). Текст: электронный.
- Латов Ю. В., Ключарев Г. А. Неформальные правила игры в образовательной системе: симуляция образования, симулякры и брокеры знаний // Общественные науки и современность. 2015. № 2. С. 31-42. Текст: непосредственный.
- Cultural-Historical Forms of Educational Practice: Socio-Philosophical Analysis / О. Istomina, V. Bukhantsov, М. Leskinen [et al.] // Sports, Health and Management. (ESE -SHM 2018). Paris, 2018. Vol. 91. June 11-13, 2018. P. 50-55.
- Socio-Economic Situation of the Region as A Factor in the Dynamics of the Institute of Education in the New Social Reality / О. Istomina, Е. Maypil, V. Metelitsa |et al.] // Linguistics and Culture Review. 2021. No 5(S4). P. 617-626.
- Ritzer G. The Mcdonaldizаtion of Society. Pine Forge Press, 2000. 278 p.