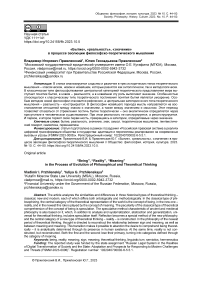«Бытие», «реальность», «значение» в процессе эволюции философско-теоретического мышления
Автор: Пржиленский В.И., Пржиленская Ю.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется сходство и различие в трех исторических типах теоретического мышления - классическом, новом и новейшем, которые разнятся как онтологически, так и методологически. В классическом типе философствования центральной категорией теоретического представления мира выступает понятие бытия, в новом - реальности, а в новейшем эту роль выполняет значение. Особенностью относящегося к классическому типу теоретического постижения понятия бытия является умозрение. Особым методом новой философии становится рефлексия, а центральная категория иного типа теоретического мышления - реальность - конструируется. В философии новейшего периода мысль направляется на восстановление отношений между знаком и значением, а также между значением и смыслом. Этот переход позволяет отказаться от стремления постичь бытие теоретически - оно аналитически определяется через присутствие в человеческом существовании. При этом реальность не конструируется, а реконструируется. И первое, и второе теряют свою первичность, превращаясь в категории, определяемые через значение.
Бытие, реальность, значение, знак, смысл, теоретическое мышление, лингвистический поворот, семиотика, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149144023
IDR: 149144023 | УДК: 111+141 | DOI: 10.24158/fik.2023.10.5
Текст научной статьи «Бытие», «реальность», «значение» в процессе эволюции философско-теоретического мышления
Введение . В современной философии не до конца обсуждена и отрефлексирована проблема сосуществования понятий бытия, реальности и значения. Между тем каждое из этих понятий выступило системообразующим для трех исторических типов философии: классического, нового и новейшего. И определять их как три вполне контингентных концепта – забывать об этой их роли. Именно об этом писали Ж. Делез и Ф. Гваттари, когда называли созерцание, рефлексию и коммуникацию тремя типами универсалий, каждый из которых соответствует своему собственному «веку философии» (Делез, Гваттари, 1998: 64). К сожалению, их голос не был услышан. По-прежнему в философском дискурсе бытие и реальность употребляются как синонимы, а о значении все говорят как о лингвистическом понятии, хотя в аналитической философии о реальности и о бытии пытаются писать как о понятии устаревшей метафизики и еще более устаревшей онтологии. В крайнем случае о реальности могут упоминать в тексте популярного изложения физики. Между тем, «бытие», «реальность», «значение» репрезентируют три исторически сменяющих друг друга философских идеала научности.
Категория бытия: генезис и эволюция . У нас есть философская категория «бытие» и несколько ключевых определений, разбросанных по наиболее цитируемым словарям и энциклопедиям. Несмотря на отказ ряда ученых влиятельных течений и концепций оперировать данным понятием, другие исследователи продолжают активно его использовать, наделяя статусом одной из центральных философских категорий. Исследователи тратят все силы для реконструкции исходного смысла этого понятия, обращаясь для этого к текстам Платона и Аристотеля, не забывая про отдельные изречения досократиков, особенно Ксенофана и Парменида. Иногда интерес к перво-истокам не ограничивается лучшим пониманием мысли тех, чьими интеллектуальными наследниками мы себя считаем. И тогда оригинальная трактовка понятия бытия может рождать новую философскую концепцию или даже новую эпоху. Наиболее ярким примером здесь, конечно же, является Мартин Хайдеггер, чья фундаментальная онтология связывает понятие бытия со временем, что трактуется немецким мыслителем не только как преодоление пресловутой метафизики, но и как открытие нового вида бытия – Dasein (Хайдеггер, 2003).
Какие бы смыслы не обретал концепт бытия за две с половиной тысячи лет существования западной рационалистической философской традиции, именно это понятие позволяло философам рассматривать мир и человека, знание и истину, добро и зло, жизнь и смерть, Творца и его творения теоретически. Потребность в нем ослабла лишь тогда и там, когда и где мир стал восприниматься как реальность, законы которой значительно лучше и точнее объясняют все многообразие вещей, событий и явлений, ибо и вещи, и события, и явления рассматриваются как законосообразные проявления этой самой реальности.
Метафизика как идеал научности . Теория бытия, созданная Аристотелем и возрожденная схоластами, вплоть до торжества опытно-экспериментального метода воплощала в себе самые строгие идеалы научности, все самые последовательные стандарты рациональности. Называемая мыслителем «первой философией» метафизика – это учение о первых началах бытия (архе) (Аристотель, 2019). При этом сами начала или принципы – это причины того, что интересующее нас событие или явление имеет место быть. Зная причину, можно с помощью правил формальной логики определить (предсказать) следствие. Одинаковые причины не приводят к разным следствиям, что позволяет нам при помощи рассуждения перейти от утверждения причин к утверждению следствий, и наоборот – от отрицания следствий перейти к отрицанию причин. Эти два модуса – ponens и tollens – по-прежнему лежат в основе научного доказательства, но формальной логики с ее рассуждениями и умозаключениями давно уж не хватает для движения научной мысли вперед. Опыт и эксперимент требуют иных качеств от терминов и прежде всего более высокой их операциональности и определенности. А способность метафизически определить «сущее, поскольку оно – сущее» (τὸ ὄν ἧ ὄν) интересует лишь историков философии.
Как известно, метафизика Аристотеля включает в себя три главных компонента: категориальный анализ сущего (τὸ ὄν), каузальный анализ сущности (οὐσία), а также учение о возможности и действительности. Категориальный анализ сущности позволяет ответить на что-вопрос: что это такое? Ответом здесь будет определение через род и видовые признаки, то есть включение данной вещи в систему родовидовых отношений действительности. Каузальный анализ проводится в соответствии с учением о четырех причинах: действующей, формальной, материальной и целевой. Знание всех этих причин позволяет ответить на вопросы, как и почему происходит движение вещи или явления, а также откуда и в каком направлении движутся эти вещи.
Различение возможности и действительности позволяет мыслить не только бытие и небытие, но также и еще-не-бытие. Именно так мышлению становится доступным анализ не только бытия, но и рождения, становления, развития. Различение между материей и формой раскрывает перед ним новые горизонты: и материя, и форма отдельно друг от друга мыслятся лишь потенциально. Материя при этом определяется как потенция (δύναμις), а в соединении с формой – как акт, действие, действительность. Отсюда и возможность определять движение в метафизическом смысле слова как любое изменение или как переход от возможности к действительности.
Учение о категориях (κατηγορία) позволяет сделать аналитическую технику предельно эффективной для своего времени. Выделяя такие категории, как сущность, количество, качество, отношение, место, время, состояние, обладание, действие, страдание, мы можем добиться высокой степени строгости и определенности всех процессов и явлений, входивших в поле зрения античной и средневековой науки. И все они замкнуты на категорию бытия, ибо первые причины и последние цели всего сущего могут быть выстроены в единую понятийную систему лишь благодаря центральному месту данного понятия.
Почему метафизика Аристотеля – это теория бытия? Логичнее было бы назвать ее теорией мира. Но понятие мира относится к числу образованных путем концептуализации слова естественного языка, смысл которого редко бывает один, – слова многозначны. И любое употребление его настолько зависит от контекста, что никакое теоретизирование не становится возможным. А вот слово «бытие» не относится к числу единиц естественного языка, что позволяет с самого начала обращаться с ним как с понятием, над которым не довлеют иные значения и смыслы. Слово «бытие» было термином, оно принадлежало к искусственному языку, специально созданному для того, чтобы обозначать невещественное так, как будто оно было бы вещью.
Сегодня может показаться, что обращение к категории бытия приближает нас к чему-то важному и глубокому, сокровенному и невыразимому. Мы уже знаем, что речь идет о метафорах, благодаря которым рождаются смыслы, и что иным способом его постижение невозможно. Но для всех наследников перипатетической философии, начиная с афинских учеников Аристотеля, через всю эллинистически-римскую эпоху, а также эпоху расцвета византийской и арабо-мусульманской науки, учение о бытии казалось строгим и рациональным. Такие характеристики ему придали средневековые схоласты, чье разбирательство в переведенных с арабского на латынь терминах осуществлялось по всем правилам римской юриспруденции и со старательностью, не уступавшей дотошности следователей святой инквизиции. Учение о родах и видах бытия, о четырех причинах, о возможности и необходимости полностью соответствовало предметам, нуждающимся в изучении, описании и объяснении в рамках античной и средневековой науки и технологии.
Научная революция и понятие реальности . В XVI в XVII вв. благодаря открытию опытноэкспериментального метода европейские ученые стали изучать не вещи, а тела. Именно тогда родился тезис, поддержанный всеми основными участниками научной революции и сделавший возможным математизацию природы. В телах нет ничего кроме движения, числа и фигуры – этот утверждения разделяли Галилей и Декарт, Ньютон и Лейбниц. Их отказ от схоластики состоял в том, что они не искали больше никаких скрытых качеств, которые позволили бы классифицировать вещи по их свойствам и сущности. Более того, как покажет развитие науки, само понятие сущности, как и мыслимое в нем содержание, окажется столь же несовместимо с требованиями научной строгости и верифицируемости, сколь и бытие. Таково оказалось «требование и направление» научного мышления, ставшее причиной замены понятия бытия понятием реальности.
Переход от одного к другому совершился в ходе длительной эволюции. Про свойства реальности заговорили не в XVII в. В процессе становления математического естествознания Галилей, Ньютон и другие не смогли или не захотели операционализировать концепт «бытие», превратить его в научный термин или нечто иное, допускающее включение в сеть других терминов, каждый из которых определяется как физическая величина, сопоставляется с фактами, является исчислимым и т.п. И хотя сама категория бытия не исчезла из философии, условия ее использования изменились – формирование новых стандартов строгости и достоверности теоретического мышления вытеснили данное понятие за пределы новой науки, оставив ему некоторые весьма ограниченные функции, вроде мировоззренческой, онтологической и т.п. Г. Коген назовет реальность требованием и направлением чистого мышления (Коген, 1922). Но такой же дефиниенс вполне пригоден и для определения понятия бытия, если речь идет о метафизических системах Аристотеля или Суареса. Стремление наделить понятие бытия существенным теоретическим статусом сохраняется и после заката схоластики – активный критик метафизики Гегель или не менее активный ее апологет Н. Гартман построили с его помощью и на его основе свои системы философского знания.
Между тем, в толковых словарях понятия бытия и реальности если не отождествляются, то рассматриваются как взаимозависимые. Так, бытие может определяться как «объективная реальность (материя, природа), существующая независимо от сознания человека»1. Итогом развития философии экзистенциализма следует считать использование при определении бытия категории существования: «Бытие – это философская категория, обозначающая независимое от сознания существование объективной реальности – космоса, природы, человека»1. Или, возвращаясь к понятию субстанции, можно сказать, что «бытие – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее»2.
Примерно так же обстоит дело и с понятием реальности. Его можно встретить в самых разных контекстах, что затрудняет поиск сколь-нибудь удовлетворительной общей дефиниции. Авторы философской энциклопедии пишут, что реальность – это «философский термин, употребляющийся в разных значениях: все существующее вообще; объективный мир; действительность; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей науки (напр., “физическая реальность”, “биологическая реальность”)»3. Более того, данное понятие в Средние века означало всего лишь универсальное свойство вещей, то, что объединяло их. Но логика теоретического мышления постепенно превратила «реальность» из простого свойства в сложную абстракцию, в рамках которой она стала постепенно размножаться. А в математическом естествознании в процессе избавления от всего схоластического реальность все же сохранилась, но теперь, в логике операционализа-ции и математизации, она «превратилась» в сверхвещь. Таким образом, понятие реальности стало выполнять ту же самую роль, которую прежде выполняло понятие бытия.
Объяснением этому может служить то обстоятельство, что прежняя метафизическая концепция позволяла давать понятию бытия четкое определение и вписывать его в систему других понятий строго и аподиктически. Это стало невозможно в условиях отказа от спекулятивного метода. Умозрительная метафизика уступила место онтологии, построенной на данных, полученных в лаборатории усилиями экспериментаторов и посредством теоретических обобщений. Понятие бытия если и включали в категориальный аппарат онтологии, то исключительно в рамках философской рефлексии, полностью заменившей в картезианской философии схоластический метод умозрения. При этом физики могли утверждать, что реальность «предстает» как система физических уравнений (Эйнштейн, 1967: 138).
Усилиями биологов, историков и социологов такое понимание данной категории назвали физической реальностью, дополнив его биологической, исторической или социологической разновидностями. Каждая из них определялась настолько же строго, насколько требовали стандарты научности в данных отраслях знания. При аналогичном разделении бытия на физическое, биологическое, социальное или историческое, ни в одной онтологии соответствующее ему понятие не определялось столь же строго, как понятие реальности. Подводя итог, можно сказать, что последнее всегда трактовалось на основании данных какой-то конкретной науки, тогда как смысл (или содержание) понятия бытия выявлялся в ходе философской рефлексии над этими данными.
Систематические затруднения, связанные с применением понятия реальности . Современные ученые периодически возвращаются к теме реальности, ибо из каждой очередной физической теории с неизбежностью следуют выводы о том, какова реальность, ее структура и свойства. Ответы должны быть получены из предлагаемых в каждой новой теории уравнений и их физических интерпретаций. Так, например, теория электрослабого взаимодействия, или единая (объединенная) теория слабого и электромагнитного взаимодействий кварков и лептонов, достаточно серьезно скорректировала господствовавшие до этого в физике представления о структуре реальности и ее свойствах. Создатели концепции С. Вайнберг, Ш. Глэшоу, А. Салам еще в 60-е годы XX в. доказали, что число фундаментальных видов физического взаимодействия не четыре, а три. Открытый ими факт обмена четырьмя частицами – безмассовыми фотонами (электромагнитное взаимодействие) и тяжелыми промежуточными векторными бозонами (слабое взаимодействие) – позволил объединить два из четырех, оставив нетронутыми сильное и гравитационное взаимодействие.
Благодаря открытию электрослабого взаимодействия мечты А. Эйнштейна о создании единой теории поля стали, по мнению большинства специалистов, значительно ближе к воплощению. «Мне кажется, – писал С. Вайнберг, – что ничто из сказанного не может заставить нас отказаться от мыслей о волновых функциях как о реальности; просто волновая функция ведет себя непривычным для нас образом, допуская мгновенные изменения, влияющие на волновую функцию всей Вселенной. Я думаю, что тебе надо перестать выискивать в квантовой механике глубокие философские откровения и предоставить мне возможность пользоваться ею» (Вайнберг, 2008).
Лингвистический поворот . Лингвистический поворот привел если не к девальвации понятия реальности, то к изменению его теоретического статуса. Ни физики, ни социологи по-прежнему не обходились без данного термина, но от желания дать строго научное описание реальности они перешли к использованию его в качестве некоего сверхсмысла. Говоря о том, что реально, а что нет, ученые и философы не описывают саму реальность, а обращаются к ней как к чему-то известному, сверяются с ранее полученным представлением о реальности для выстраивания единой системы ранее и вновь полученных эмпирических знаний. В этих условиях «функционал» термина «реальность» переходит к понятию значения.
Философы, стремившиеся преодолеть метафизику путем критического анализа языка, закономерно поставили под сомнение особый концептуальный статус понятия реальности. «Мы можем начать с критики метафизического тезиса, – писал А.Дж. Айер, – согласно которому философия дает нам знание о реальности, трансцендентной миру науки и здравого смысла. Позднее, когда мы придем к определению метафизики и объяснению ее существования, то обнаружим, что можно быть метафизиком без того, чтобы верить в трансцендентную реальность; ибо мы увидим, что множество метафизических выражений своим существованием обязано совершению логических ошибок, а не сознательному желанию со стороны их авторов выйти за границы опыта» (Айер, 2010: 45).
Обычно лингвистическим поворотом называют философские идеи и воззрения Б. Рассела (Рассел, 1999) и Л. Витгенштейна (Витгенштейн, 2010), приведшие к появлению аналитической философии. Развитие данного направления было связано с переосмыслением понятия и роли языка в познании и мышлении. Между тем, эволюция не менее влиятельных направлений философской мысли, таких как феноменология и прагматизм, также вполне подходит под данное название. В их основе также лежит новое понимание роли языка, значения, смысла, хотя и определяются эти понятия в рамках аналитической философии, феноменологии и прагматизма по-разному. Различными являются также методологические основания данных направлений. Методом аналитической философии можно считать применение совокупности логического и лингвистического анализа обыденного языка, направленное на перевод философских проблем в лингвистические.
Основоположник феноменологического направления в философии Э. Гуссерль также обратил внимание на трудности в использовании термина «реальность» (Гуссерль, 2009: 151). «Между сознанием и реальностью находится “пропасть смысла”», – писал он, обосновывая собственную концепцию. «“Реальность” здесь, – поясняет эту фразу В.И. Молчанов, – явно отождествляется Гуссерлем с предметностью. Однако предметы в самом деле бывают иллюзорными. Тогда между сознанием и иллюзорным, и в этом смысле нереальным, предметом опять-таки должна зиять пропасть смысла: смысл на стороне иллюзорного предмета, на стороне сознания – придание смысла, то есть интенциональный акт. Теперь пропасть оказывается между двумя нереальностями: одной – предметной, другой – непредметной (акт сознания). Тем самым теряет смысл противопоставление сознания и реальности» (Молчанов, 2022: 16).
Совсем иные реалии стали основанием для критики понятия реальности в прагматизме, но фактически их движение было в том же самом направлении и принесло те же результаты, что и в аналитической и в феноменологической философии.
Методом прагматистской версии лингвистического поворота стала наука о знаках, или семиотика. И хотя данная наука успешно развивалась и прежде, в рамках языкознания американский философ Ч. Пирс на основе представления о знаке и значении создал философскую концепцию мышления и познания (Пирс, 2001), и это – несомненная революция.
Как известно, Ч. Пирс, Ч. Морис, У. Джемс искали способ приблизить философию к нуждам человека, находящегося ежедневно, а иногда и неоднократно, перед выбором, когда от принятия решения зависит результат деятельности. В таких условиях требуется иная логика, иная онтология, иная теория познания, что и было создано американскими философами, составив уникальность прагматистской традиции. Не дедукция, не индукция и даже не аналогия стали в прагматизме основой логики, их место заняла абдукция – гипотетическое умозаключение, которому в аристотелевской логике отводилась незавидная роль неправильного условно-категорического модуса. Его неправильность превратилась в единственно возможное определение направления поиска, но для этого пришлось заменить традиционные теоретико-познавательные понятия истины и заблуждения на два других понятия, скорее, характеризующие психологическую ситуацию, нежели логическую. Речь идет о понятиях «верования» (beliefs) и «сомнения» (doubt), которые регулируют действия человека в условиях неопределенности, а такая неопределенность характерна для принятия множества решений, как повседневных, так и жизненно важных. Онтологией прагматизма можно считать уникальный сплав новейшей логики, семиотики и психологии, когда лингвистическая относительность кладется в основание онтологической. Именно так представил онтологию прагматизма У. Куайн (Quine, 1968).
Заключение . Разумеется, после столь нетривиальных трактовок понятий истины, умозаключения, действия, что-то надо было сделать с понятием реальности, игравшем столь важную роль в картезианской парадигме. Проблема эта была решена в прагматизме при помощи психологии. «В относительном смысле, – писал У. Джемс, – то есть в том смысле, в котором мы противопоставляем реальность простой нереальности и в котором одна вещь называется более реальной, чем другая, и в нее больше верят, реальность означает всего лишь связь с нашей эмоциональной и деятельной жизнью. Таков единственный смысл, которым когда-либо наделялось данное слово в устах практичных людей. В этом смысле реально все, что возбуждает и стимулирует наш интерес; всякий раз, когда объект настолько привлекает нас, что мы обращаемся к нему, принимаем его, посвящаем ему свои мысли или обходимся с ним практически, он реален для нас, и мы верим в него» (Джемс, 2013: 226). Таким образом, вопросы «Существует ли реальность?», «Каковы ее законы?» или «Какова ее структура?» были вытеснены вопросом «Что мы имеем в виду, когда говорим о реальности?». Другими словами, лингвистический поворот в случае прагматизма также привел нас к вопросу о знаке, значении, смысле.
Если мы видим мир как совокупность вещей, то понятие бытия позволяет рассматривать его теоретически. Если же мир – это процессы и явления, то теоретическое представление его как реальности выглядит предпочтительным. Именно поэтому один из основоположников аналитической философии подчеркивал, что мир – это совокупность фактов, а не вещей, определяя факты через высказывания. В результате рискованной, но вполне оправданной триангуляции можно также утверждать, что сегодня мы видим мир как совокупность значений, имея при этом в своем распоряжении умение прочитывать знаки и оперировать ими. И аналитическая философия, и философия прагматизма, и феноменология исходят из этого утверждения, не отвергая прежние «исторические типы» философии, не вытесняя их полностью, но побеждая в конкурентной борьбе, они всего лишь констатируют маргинальный статус категорий бытия и реальности.
Список литературы «Бытие», «реальность», «значение» в процессе эволюции философско-теоретического мышления
- Айер А.Дж. Язык, истина и логика. М., 2010. 240 с.
- Аристотель. Метафизика. М., 2019. 448 с.
- Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: физика в поисках самых фундаментальных законов природы. М., 2008. 256 с.
- Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 2010. 347 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. I. М., 2009. 489 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 1998. 288 с.
- Джемс У. Глава XXI. Восприятие реальности. Вера // Социология власти. 2013. № 1-2. С. 214–256.
- Молчанов В.И. Проблемы с проблемой сознания. Абстракции и псевдоабстракции // Философский журнал. 2022. Т. 15, № 3. С. 5–20. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2022-15-3-5-20.
- Пирс Ч.С. Принципы философии: в 2 т. СПб., 2001. Т. 2. 313 с.
- Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. 192 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. 509 c.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов в 4 т. М., 1967. Т. 4. 600 с.
- Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. Dritte Aufl. Berlin, 1922. 333 s. (на нем. яз.)
- Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. 65, № 7. P. 185–212. https://doi.org/10.2307/2024305.