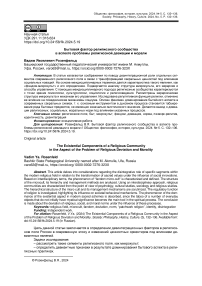Бытовой фактор религиозного сообщества в аспекте проблемы религиозной девиации и морали
Автор: Розенфельд В.Я.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются соображения по поводу дезинтеграционной роли отдельных сегментов современного религиозного поля в связи с трансформацией сакральных ценностей под влиянием социальных новаций. На основе междисциплинарных терминов дается характеристика такого явления, как «фэндом-микрокульт» и его определение. Подвергается анализу структура микрокульта, его иерархия и способы управления. С помощью междисциплинарного подхода религиозные сообщества характеризуются с точки зрения психологии, культурологии, социологии и религиоведения. Рассмотрены иерархическая структура микрокульта и механизм его управления. Исследована регулятивная функция религии, отмечено ее влияние на поведенческие механизмы социума. Описан феномен доминирования бытийного аспекта в современных сакральных схемах, т. к. основным инструментом в духовном процессе становится табуирование ряда бытовых предметов, не имеющих изначально мистического значения. Делается вывод о девиации религиозных, социальных, моральных норм под влиянием указанных процессов.
Религиозное поле, быт, микрокульт, фэндом, девиация, норма, пэчворк-религия, идентичность, дезинтеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/149145910
IDR: 149145910 | УДК: 291.11:316.624 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.19
Текст научной статьи Бытовой фактор религиозного сообщества в аспекте проблемы религиозной девиации и морали
Уфа, Россия, ,
Цель данной статьи заключается в определении дезинтеграционных факторов в религиозном поле России в современную эпоху и изменений ценностных ориентиров под влиянием девиантных явлений.
Задачи исследования:
-
– рассмотреть такие сегменты религиозного поля, как микрокульт;
-
– определить девиантные признаки в результате доминирования бытового аспекта в религиозных практиках.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
-
– обосновано, что использование междисциплинарных терминов способствует более глубокому раскрытию социально-философского значения понятий «норма» и «девиация»;
-
– раскрыто, что самоидентификация субъекта в постсекулярный период находится вне этнического и традиционного факторов, религиозного опыта и формируется под влиянием современных сакральных практик, в которых превалирует бытовой аспект;
-
– выявлено, что сегменты религиозного поля России имеют тенденцию к дезинтеграции под влиянием девиантных факторов. Девиантные проявления возникают в результате замещения догматических норм социально-мистическими нарративами.
Теоретической и методологической основой настоящего исследования являются системнокоммуникационный и междисциплинарный концептуальные подходы.
Исследуя религиозные явления, мы наблюдаем, в первую очередь, гармонично выстроенную систему, существующую благодаря перманентной коммуникации между отдельными элементами.
Подвергая исследованию разного рода религиозные практики, мы отмечаем неразрывную связь последних с этническими, социальными, политическими, культурологическими, юридическими, экономическими факторами современного общества. Только применив междисциплинарный подход к рассмотрению темы нашего исследования, возможно получить целостную картину, характерную для постсекулярного периода.
Многообразие микросоциумов, ярко выделяющихся ростом индивидуализма, приватизацией культурной, социальной и этнической составляющей, является характерной картиной современного мира. Наиболее видимой причиной данного явления выступают миграционные процессы, влияние которых испытывает большинство развитых стран Старого и Нового Света. Но было бы заблуждением возводить указанные процессы в ранг первопричины и абсолютной величины. Питательной средой радикальной самоидентификации сообществ и, как следствие, растущей фрагментарности, является, на наш взгляд, наличие « рынка вер» – конкурирующих религиозных убеждений. Традиционно религии приписывается функция социальной интеграции и стабильности. По мнению Э. Дюркгейма, функция, поддерживающая именно коллективную, групповую идентичность и солидарность, принадлежит именно религии – «…религия соответствует весьма центральной области общего сознания» (Дюркгейм, 1996: 20). С исторической точки зрения оспаривать указанный факт было бы неразумно. Но данная функция может иметь успешную реализацию лишь в рамках:
-
а) локального этноса;
-
б) группы этносов, исторически связанных лексической, культурной, религиозной платформами;
-
в) группы этносов, которым в виде традиционной ценности транслируется федеративноимперская программа.
Если в первых двух ситуациях религия может выступать спонтанным носителем интегрирующей идеи, то в последнем – лишь выполнять социальный заказ государства при административной поддержке последнего.
«В социально дифференцированных и сложных обществах, включая большинство современных, функция религии может не срабатывать или вести к обратному результату – дезинтеграции, разъединению индивидов, социальных групп и институтов» (Ковзик, 2013). Даже находясь вне прямой зависимости от государства, религиозные структуры (ислам, католицизм, буддизм) несвободны от социальных противоречий, значительно влияющих на канонические нормы.
Наиболее ярким примером в настоящее время является политика Римского престола в отношении левых тенденций. Хотя папу Франциска необдуманно упрекают в лоббировании данных интересов, на самом деле перед Ватиканом стоит непростая задача – предотвратить риск раскола Церкви и не допустить отхода от Рима, что в век постмодернизма является вполне реальной угрозой. Такая политика имеет свои причины: Ватикану приходится балансировать на множестве мнений 1,370 млрд католиков – людей разных наций, с самыми расхожими взглядами и культурами – с подобным до Франциска не сталкивался ни один предшественник. Неизбежным становится процесс децентрализации: локальные католические структуры, получая все больше автономии, трансформируются в сообщества с расплывчатыми обязательствами к центру. Аналогичный процесс происходит и в протестантских деноминациях (Лункин, 2007).
Россия не является исключением: здесь, как и во многих регионах мира, происходит процесс «духовной реконструкции». Смысл этого понятия в перемене курса субъекта от религии к «духовности» – все большее количество людей идентифицирует себя как духовных, а не религиозных. Херберт Кноблаух объясняет разницу между духовностью и религией, делая акцент на субъективном опыте «обычных» людей (Knoblauch, 2008).
-
Х . Кноблаух ставит на первое место субъективный опыт, что в разрезе современного доминирования религиозной группы над личностью не совсем верно, однако в целом его трактовка духовности отвечает действительности.
Несмотря на декларируемое доминирование традиционных конфессий, Российское религиозное поле на современном этапе представляет собой достаточно хаотичный набор акторов, ведущих размытую религиозную деятельность. Согласно ряду исследований большинство населения не ведет традиционной церковной жизни, избегая сугубо канонических предписаний (Ди-висенко, Тупахина, Белов, 2014).
Имея вместо подлинной религиозности лишь стремление к религиозности, субъект стремится заместить психологическую нишу нарративами, в содержании которых пересекаются социальные и мистические идеалы. К таковым можно отнести движения против ИНН, электронных документов, прививок и прочие сегменты антиглобалисткого направления. Данные примеры наглядно свидетельствуют, как пассивно существующие народные легенды, получив усиление за счет сакрального текста, разворачивают вокруг себя социально-религиозные сообщества. «Сформировавшееся вокруг нарратива сообщество возможно охарактеризовать как фэндом – субкультуру, состоящую из фанатических поклонников художественного произведения, вымышленной вселенной» (Розенфельд, 2022).
Характерно, что, несмотря на абсолютно смещенные религиозные акценты, такие сообщества продолжают причислять себя к одной из традиционных конфессий. «Личная религия» формируется, как правило, из восточных практик, йоги, медитативных упражнений, элементов экстрасенсорики, архаических культов, и все это при идентификации себя субъектом традиционной конфессии» (Ореханов, 2015). В основе соотнесения себя с определенной религией лежит не конфессиональное и догматическое влияние, но информация из книг, телепередач, интернет-сайтов. Для подобной религиозности, основанной на светских источниках информации, весьма точен термин Д. Эрвьё-Леже « лоскутное верование » ( patchwork belief ) (Hervieu-Léger, 2000).
Пэчворк-религия достаточно характерно описана американским социологом Робертом Вут-ноу. «Когда Бог, в конечном счете, является тайной, легко предположить, что все религии содержат идеи о Боге, но ни одна религия не обеспечивает полного понимания Бога, и, таким образом, один из способов расширить свое понимание Бога – это почерпнуть идеи из многих различных религиозных традиций» (Wuthnow, 2007: 120).
Как уже упоминалось, ряд религиозных фэндомов России, декларируя причастность к традиционной конфессии, на деле являются адептами пэчворк-религий. Данные сообщества в силу тяготения к дезинтеграции не могут быть охарактеризованы как церковь, но и термин «секта» ввиду доминирования светских ценностных установок также не отражает их сути. Наиболее удачным представляется предложенный Г. Беккером термин «культ» (от лат. cultus – забота, поклонение) . Учитывая численную, социальную и сакральную нестабильность, для таковых сообществ более уместным был бы термин «микрокульт». Данное определение при анализе российского общества в качестве религиозного поля органично соотносилось бы с понятием «микросоциум», а феномен «лоскутной религиозности» был бы логичным обоснованием «лоскутности» социальной. Для полной типологии данного явления необходимо прибегнуть к междисциплинарному подходу и характеризовать данные религиозные сообщества с точки зрения:
-
– психологии и культурологии – как фэндом;
-
– социологии – как микросоциум;
-
– с философско-религиоведческой – как микрокульт.
Освещая причину социального влияния на религиозные сообщества, необходимо рассмотреть два момента.
-
1. Иерархическую структуру микрокульта.
-
2. Механизм управления микрокультом.
Как правило, период существования микрокульта-фэндома достаточно ограничен, поскольку доктрина микрокульта находится под постоянным влиянием социальных, научных, общественных перемен. Роль пастыря заключается в своевременной адаптации канонического нарратива к данным изменениям и, соответственно, непрерывной катехизации участников культа. «Общества обладают историями, в процессе которых возникают специфические идентичности; но эти истории, однако, творятся людьми, наделенными специфическими идентичностями» (Heidegger, 1927). Роль пастырей второго плана сводится к катехизации без права толкования сакрального текста и обычно к непосредственному контакту с рядовыми участниками культа. В связи с возрастающей ролью глобальной сети Интернет, особую роль в данной группе играют модераторы сайтов и сообществ в социальных сетях.
Прочих участников микрокульта возможно отнести к катехуменам, т. е. проходящим перманентную катехизацию по указанным выше причинам.
Данное действие осуществляется через систему норм , т. е. возведенных в сакральное значение распоряжений, рекомендаций, санкций, примеров наказания и поощрения. Основным приемом управления является табуирование - наложение сакрального запрета, либо ограничений, в различных сегментах бытовой и социальной деятельности субъекта. В данном случае речь идет не о традиционных для религиозных сообществ ограничениях – постах, молитвенном расписании, посещении храмов и пр., но о сферах деятельности, являющихся для современного общества нормой . В традиционной ситуации под запрет попадают, как правило, новации научнотехнического прогресса.
Весьма распространенный в начале века протест против ИНН является в настоящее время востребованным и получил дальнейшее развитие за счет т. н. «ковидного богословия», весьма подробно описанного исследователями Р. Лункиным, Д. Узланером, Б. Кнорре. Указанные авторы достаточно эффектно исследовали девиантный синдром российских религиозных сообществ. Ряд микрокультов, таких как «Иван-чай», «АРКС», расширили диапазон запрета на электронные карты, дистанционное обучение, прививки, биометрию. Во многих околоправославных сообществах запрещается пользоваться российским паспортом (Кнорре, Мурашова, 2021). Некоторые микрокульты, в частности, «Рожденные в СССР», признают недействительными все договорные обязательства, например, кредитные. Общины «Родовых поместий», они же «Звенящие кедры России», не рекомендуют своим адептам обращение к медицинским и образовательным учреждениям (Синявина, Махович, 2018). Как уже отмечалось, практика ограничений достаточно пластична и способна меняться под влиянием обстоятельств. В культах старообрядческого направления в последнее время допускается использование компьютера (при условии отключения от интернета), мобильного телефона (кнопочного образца, при том же условии).
В мистической жизни субъекта главным инструментом в вопросах личного спасения становится не участие в ритуальных практиках, но избегание определенного документа, вида одежды, формы лечения, образования, информации, конкретных предметов – практически всего, что относится к социальной коммуникации. В соответствии с данными ценностями формируются вопросы морали, проблемы «добра и зла», нормы и девиации. Положения, являющиеся для современного общества нормой , девиантны для катехумена микрокульта. Ценностные и поведенческие установки последнего, соответственно, девиантны по отношению к социуму. Фэндом-мик-рокульт, выводя катехумена из социальной среды, достигает своих целей:
-
– делая катехизацию единственным критерием социальной информации;
-
– используя бытовой фактор, охватывает все стороны жизни катехумена.
Рассмотрев механизм регулятивной функции религии в описываемых сообществах, отметив ее безусловное влияние на поведенческие механизмы индивидов в современных социальных схемах, приходим к следующим выводам:
-
1. Под влиянием сакрализированного бытового аспекта обладание предметами быта либо их отрицание становится критерием для:
-
– определения морали, принципов «добра и зла»;
-
– самоидентификации;
-
– ритуальных практик;
-
– семейных отношений;
-
– социальной коммуникации.
2. Современный
фэндом-микрокульт,
являясь неотъемлемым сегментом религиозного поля России, трансформирует общие религиозные отношения, наделив бытовой аспект сакральным содержимым, что
девиантно
относительно традиционных религиозных практик.
Данная позиция девиантна относительно этнических, культурных, религиозных, социальных и иных традиционных ориентиров.
Выводы . Следует признать, что идея возведения религии в статус стержня государственнонациональной интеграции откровенно неудачна. Сегменты религиозного поля России под влиянием дезинтеграционных факторов находятся в состоянии девиации традиционных ценностных установок и транслируют данное состояние в социум. Являясь в первую очередь носителем субъективного, псевдорелигиозного канона и связанных с ним трансформированных бытовых и поведенческих норм в условиях полиэтнического и поликонфессионального общества, современное религиозное поле уже латентно дезинтеграционно. В сложном мире социальной дифференциации, к которому мы имеем все основания отнести современное общество, функция «интеграции и стабильности» исчерпала свой потенциал и приводит, скорее, к обратному результату.
Список литературы Бытовой фактор религиозного сообщества в аспекте проблемы религиозной девиации и морали
- Дивисенко К.С., Тупахина О.В., Белов А.Э. Практическая составляющая структуры религиозного жизненного мира (на примере православных христиан) // Петербургская социология сегодня. 2014. № 5. C. 199–216.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А.Б. Гофмана. М., 1996. 430 c.
- Кнорре Б.К., Мурашова А.А. «В начале было Слово…», а в конце будет число? Православие и антицифровой протест в России: с 1990-х до коронавируса // Мир России. 2021. Т. 30, № 2. С. 146–166. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2021-30-2-146-166.
- Ковзик Г.О. Религиозный феномен в жизни общества: конструктивные и деструктивные аспекты // Сборники конференций НИЦ Cоциосфера. 2013. № 6. С. 62–66.
- Лункин Р.Н. Протестанты и политические конфликты в Евразии: спасение душ и управляемая демократия // Религи я и конфликт: сб. статей. М., 2007. С. 175–222.
- Ореханов Ю.Л. «Patchwork-religiosität» («лоскутная религиозность»): особенности изучения явления в современном немецком контексте» // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2015. № 6 (62). С. 94–112. https://doi.org/10.15382/sturI201562.94-112.
- Розенфельд В.Я. Роль религиозной девиации в процессе формирования фендомов религиозного поля России // Вестник Русской христианской гуманитарной академии 2022. Т. 23, № 3–1. С. 133–141. https://doi.org/10.25991/VRHGA.2022.3.1.011.
- Синявина Н.В., Махович Е.В. Квазирелигия: основные подходы к определению понятия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 3 (83). С. 10–17.
- Heidegger M. Sein und Zeit. Halle, 1927. 438 p. (на нем. яз.).
- Hervieu-Léger D. Religion as a Chain of Memory. New Jersey, 2000. 224 p.
- Knoblauch H. Spirituality and Popular Religion in Europe // Social Compass. 2008. Vol. 55, no. 2. P. 140–153. https://doi.org/10.1177/0037768607089735.
- Wuthnow R. (2007) America and the Challenges of Religious Diversity. Princeton, 416 p.