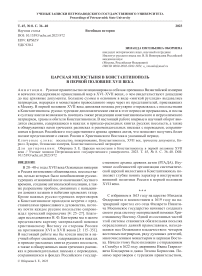Царская милостыня в Константинополь в первой половине XVII века
Автор: Оборнева З.Е.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Русское правительство позиционировало себя как преемника Византийской империи и всячески поддерживало православный мир в XVI-XVII веках, о чем свидетельствуют дошедшие до нас архивные документы. Большие суммы в основном в виде «мягкой рухляди» выдавались патриархам, иерархам и монастырям православного мира через их представителей, приезжавших в Москву. В первой половине XVII века денежная помощь регулярно отправлялась с посольствами в Константинополь: русско-турецкие дипломатические связи в этот период не прерывались, и послы к султану имели возможность посещать также резиденции константинопольского и иерусалимского патриархов, храмы и обители Константинополя. В настоящей работе впервые в научный оборот вводятся сведения, содержащиеся в наказах и приходо-расходных книгах русских посольств, а также в обнаруженных нами греческих расписках и рекомендательных письмах с переводами, сохранившихся в фондах Российского государственного архива древних актов, что позволяет получить более полное представление о связях России и Христианского Востока в указанный период.
Посольство, пожертвование, константинополь, xvii век, греческие документы, кирилл лукарис, османская империя, константинопольский патриархат
Короткий адрес: https://sciup.org/147242347
IDR: 147242347 | УДК: 930.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.972
Текст научной статьи Царская милостыня в Константинополь в первой половине XVII века
В 20–40-е годы XVII века Османская империя и Россия интенсивно обменивались посольствами, целью которых было возобновление русско-турецких отношений после окончания Смутного времени, создание антипольской коалиции, а также разрешение проблем, связанных с нападением донских казаков и набегами крымских татар. Кроме важных русско-турецких переговоров в Константинополе проходили встречи с представителями православного духовенства, поэтому почти каждое русское посольство сопровождал греческий переводчик [4: 25–27]. Благодаря исследованиям Н. Ф. Каптерева мы в целом представляем картину материальной помощи христианскому Востоку со стороны России на протяжении XVI и XVII веков [3: 115–351]. В настоящей работе мы бы хотели ввести в научный оборот сведения, содержащиеся в наказах и приходо-расходных книгах русских посольств, а также в обнаруженных нами греческих расписках и рекомендательных письмах с переводами, сохранившихся в фондах Российского государ- ственного архива древних актов (РГАДА). Изучение особенностей организации систематической царской милостыни в Константинополь позволяет глубже понять характер и инструменты внешней политики России в первой половине XVII века.
***
С избранием в 1613 году на царство Михаила Федоровича и восшествием в 1619 году на патриарший престол его отца Филарета Никитича Московское государство начинает создавать своего рода систему материальной помощи Христианскому Востоку. Одной из составных частей этой системы становится обязательная посылка определенных даяний православным, находящимся под Османским владычеством: четырем восточным патриархам, ряду духовных деятелей, многочисленным монастырям и церквам Востока. Начало этому было положено с отправлением в Стамбул в 1622 году дворянина Ивана Гавриловича Кондырева и дьяка Тихона Бормосова. Помимо переговоров с турецким правительством, посольство должно было доставить денежную помощь патриархам, архиереям, монастырям и церквам христианского Востока. Для определения размеров этой помощи московские власти обратились к келарю Новоспасского монастыря Иоанникию Греку, который сообщил сведения о монастырях и количестве населявших их монахов в Константинополе, Иерусалиме и «во всей греческой области» [6: 101–110].
Наказ посольству соответствовал не «Скаске» келаря, а скорее росписи Трифона Коробейникова, который в 1593–1594 годах раздавал милостыню в три монастыря на Фанаре: два монастыря св. Иоанна Предтечи и один монастырь св. Дмитрия Солунского, монастырь (церковь) св. Георгия, Мавромольскую обитель, в три монастыря на «острове Халкидоне» (Халки): Успенский, Троицкий и Никольский, а также в 46 приходов в Константинополе и Галате1. Во время пребывания послов в Царьграде патриарх Кирилл Лукарис, вероятно, составил список из шести монастырей (четырех в Константинополе и двух на Принцевых островах) и 12 галатских церквей для посольства, о чем свидетельствует помета «по скаске цареградцкого патриарха Кирила»2, что помогло посольству в распределении материальной помощи.
Следующее посольство стольника Семена Дементьевича Яковлева и дьяка Петра Евдокимова прибыло в столицу Османской империи 17 августа 1628 года. Послам пришлось почти год ждать возвращения визиря из персидского похода [5: 25], поэтому у них было достаточно времени для распределения основных и дополнительных средств. 2 октября 1628 года известный в России архимандрит Святого Гроба Амфилохий получил от русских послов милостыню царя и патриарха для иерусалимского патриарха Феофана: два сорока соболей по 40 рублей, сорок соболей по 35 рублей, сорок соболей по 30 рублей, сорок соболей по 25 рублей. Всего – 170 рублей3. После послы приступили к раздаче материальной помощи в цареградские храмы и монастыри. Сначала деньги были переданы уже известным монастырям Константинополя и храмам Галаты согласно посольскому наказу4. После выдачи царских пожертвований патриархам в дни памяти св. Димитрия и св. Нестора (26 и 27 октября) было передано по ефимку клирикам 12 галатских приходов, что может быть связано с близостью к этим храмам цареградской посольской резиденции. 30 октября была выплачена милостыня трем монастырям в районе Фанар: в деле, содержащем расписки «с переводами разных цареградских, иерусалимских и афонских духовных властей в принятии ими от российских тамо бывших послов Семена Яковлева и дьяка Петра Евдокимова соболиной и денежной от двора Российского посланной в милостыню казны» содержатся три расписки: за женский монастырь св. Димитрия Солунского расписался иеродиакон Великой церкви Константин, причем сумму милостыни не указал, приведя лишь список монахинь; за мужской монастырь св. Иоанна Предтечи в Кинегионе расписался игумен Анфим, указав, что получил для себя два гросса (ефимка), а за священника и диакона – один, остальные же монахи просто даны списком; за женский монастырь св. Димитрия Солунского у Фанарских ворот расписался великий архимандрит Великой церкви Анфим, указав, что взял себе один гросс (ефимок), а для монахинь – шесть. В это же время согласно приходо-расходной книге посольства была дана милостыня в монастырь Иоанна Предтечи у Андрианопольских ворот. Расписка от этого монастыря не сохранилась, дошел лишь перечень с поименным перечислением 21 монахини и трех клириков5.
3 ноября 1628 года тырновский митрополит Макарий получил как эпитроп антиохийского патриарха Игнатия милостыню от послов в размере 200 гроссов (в переводе – 200 ефимков) для антиохийского патриарха6. 30 ноября 1628 года по просьбе Константинопольского патриарха Кирилла была выдана милостыня игумену монастыря Богородицы Мавромольской Кириллу с 15 монахами в размере 8 ефимков «на строенье»7.
Этим же патриархом для русских послов был составлен список цареградских обителей и храмов [7: 145–149], в котором, кроме тех обителей и храмов, которые уже посетили послы, содержалось 28 приходских церквей. Выдача милостыни в эти храмы состоялась в промежуток 24 января – 12 февраля 1629 года практически в точности по списку патриарха, о чем свидетельствуют даты на некоторых расписках: расписки на греческом языке были получены от всех приходов, благодаря чему мы знаем имена клириков константинопольских приходов и имеем их автографы. Это, например, сакеларий Великой церкви от храма св. Георгия «Родианон», свято-горцы от храма св. Георгия Фитил, о. Михаил от храма Богородицы Муглиотисы, о. Михаил, о. Феолог и диакон от храма св. Георгия Потира8.
В качестве обителей в росписи Кирилла Лука-риса были указаны два монастыря св. Георгия – здание константинопольского патриархата и подворье иерусалимского патриархата9. 24 января 1629 года иеромонах и архимандрит Великой церкви Лаврентий, а также протопоп Софроний, архидиакон келарь Дамаскин, шесть священников и шесть диаконов получили царскую милостыню – 11 золотых флоринов. Тогда же ар- химандрит св. Гроба Амфилохий дал расписку в получении вместе с 10 братьями иерусалимского подворья царской милостыни – 5 золотых флоринов.
У посольства была санкция на раздачу оставшихся золотых обителям, не указанным в наказе10, поэтому 28 мая 1629 года послы выдали жалование пришедшему к ним игумену Преображенского монастыря на острове Прин-кипо Анатолию с грамотой патриарха Кирилла Лукариса, а незадолго до этого – Успенской обители, за которую попросил сам Константинопольский патриарх, направив к послам настоятеля монастыря Панагии на острове Халки и обратившись к ним с просьбой дать ему, если имеется такая возможность, милостыню, потому что «это – царский монастырь, и там погребаются патриархи» [7: 152–155].
Помимо помощи константинопольским монастырям и церквам, до нас дошел целый комплекс документов, относящийся к выдаче денежных средств другим обителям: на Синай (2 февраля 1629 года), монастырю св. Николая на Афоне (4–20 февраля 1629 года), в Хиландарский монастырь (сохранился список из 206 монахов оби-тели)11. Почти все эти расписки, за исключением расписок от церквей, были переведены посольским переводчиком Анастасом Селун-ским, который иногда дополнял перевод сведениями, известными ему, но отсутствовавшими в греческом оригинале [4: 193–196]. Сохранилась и приходо-расходная книга посольства С. Яковлева и П. Евдокимова. Она уникальна тем, что в ней, помимо предполагаемого числа насельников и предполагаемой суммы, обозначенной в наказе, указаны реальное число монашествующих и действительно выплаченная сумма. Число и сумма корректировались на основании расписок о получении милостыни12. Реальное число насельников весьма существенно отличалось от обозначенного в «наказе»: вместо 11 старцев – 9, вместо 23 стариц – 15, вместо 14 стариц – 10, что позволило послам выдать меньшую сумму пожертвований, чем предполагалось. Некоторую роль сыграл свободный перевод посольского переводчика Анастаса Селунского, который вольно или невольно преувеличил число насельников, выдавая за монахов послушников.
Практика проверки насельников, получающих милостыню от русского правительства, не прижилась. Последующие посольства раздавали заранее расписанные суммы, основанные, видимо, на первом несохранившемся списке Кирилла Лукариса. Таким образом, в течение последующих 15 лет число насельников в росписях посольств на бумаге оставалось неизменным. В следующем, 1630 году ту же самую милосты- ню раздает посольство А. Совина – М. Алфимова [2: 256–257], схожий порядок раздачи денежной помощи прослеживается в приходо-расходной книге посольства И. Коробьина – С. Матвеева четырьмя годами позднее, за исключением того, что послы выдали двойную (заздравную и заупокойную) милостыню мягкой рухлядью (парами соболей), в результате чего сумму приходилось округлять в меньшую сторону13. Почти 10 лет спустя посольство И. Милославского – Л. Лазоревского выдало такую же милостыню, как и предыдущие посольства, не проверяя число насельников14, а в 1645 году посольство С. Телепнева – А. Кузовлева15.
Таким образом, в 1622 году сформировался неизменный в дальнейшем список, состоящий из четырех монастырей в районе Фанар и двух монастырей на Принцевых островах. Монастырь св. Иоанна Предтечи у Адрианопольских ворот (в росписи Кирилла Лукариса 1628 года обозначенный как Петра)16 [9: 421–429], [10: 219– 234], монастырь св. Иоанна Предтечи около Ба-латских ворот (в росписи Кирилла Лукариса обозначенный как Кинигон)17 [9: 411] и монастырь св. Дмитрия Солунского около Балатских ворот (в росписи Кирилла Лукариса обозначенный в Ксилопорте, в расписке монастыря – Канас)18 [9: 90–91], [12: 173], [13: 57] впервые были упомянуты в «Скаске» Иоанникия [6: 102]. Благодаря росписи Кирилла Лукариса русские власти узнали о монастыре св. Дмитрия Солунского у Фанарских ворот (в росписи Кирилла Лукариса 1628 года он обозначен как Раманды)19 и о двух монастырях на Принцевых островах, Преображенском и Богородицы на острове Халки20. По какому-то недоразумению последний монастырь был ошибочно назван Спасским. И хотя ошибка была исправлена в 1629 году21, именно так он продолжал именоваться во всех последующих росписях. Здания константинопольского патриархата с его насельниками (монастырь св. Георгия) и подворье иерусалимского патриархата (монастырь св. Георгия), обозначенные в росписи патриарха Кирилла, в дальнейшем не рассматривались властями в качестве монастырей. Мавромоль-ский монастырь также в основном не получал царских пожертвований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из направлений русской политики была посылка на Восток «заздравной» и «заупокойной» милостыни, которая доставлялась туда, как правило, с отправлявшимися в Константинополь московскими послами. Начало этой деятельности было положено во второй половине XVI века, когда Христианский Восток получал богатую милостыню то в связи с ут- верждением константинопольским патриархом Иоасафом II царского титула Ивана IV, то на помин души царевича Ивана, а затем – после основания Московского патриархата и рождения у царя Федора Ивановича дочери Феодосии. Однако эта материальная поддержка единоверцев на Востоке, несмотря на всю свою значительность, была эпизодической. Списки монастырей и храмов Константинополя, созданные келарем Иоанникием и Кириллом Лукарисом, сыграли большую роль при оказании систематической помощи Христианскому Востоку русским правительством. Величина и регулярность оказываемой Россией помощи свидетельствуют о том, что она желала быть гарантом сохране- ния православия в Османской империи и старалась облегчить жизнь православных христиан в условиях турецкого ига. Всего за период немногим более 40 лет шесть монастырей и 12 галатских храмов получили около 400 золотых, при этом большая часть суммы (305,5 золотых) приходилась обителям, а меньшая – галатским приходам. Вместе с тем стоит отметить, что в конце XVI века только один Трифон Коробейников передал от царя 360 золотых монастырям и 199 золотых обителям, что может быть объяснено благодарностью за учреждение Московского патриархата и благосостоянием Москвы.
Список литературы Царская милостыня в Константинополь в первой половине XVII века
- Хождение Трифона Коробейникова // Православный Палестинский сборник. Т. IX. Вып. 3. СПб., 1889. С. 85-94.
- РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1624 г. № 2. Л. 332. Об этом патриархе см. [8: 461-463].
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1629 г. № 21. Л. 1-2.
- РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1628 г. № 1. Л. 125-129.
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1629 г. № 21. Л. 71.
- Там же. Л. 5-6.
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1629 г. № 21. Л. 8.
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1629 г. № 21. Л. 42-45. О последнем храме известно, что он принадлежал семье логофетов Великой церкви, известной с XII века как Апотира; см.: ГеЗекту М. ЕккАг^аг ри^хутгукту е^акрфоицстои. К(^отаутгуош:оА,1<;, 1900. Е. 140-141.
- О подворье иерусалимского патриархата известно мало; см.: ГеЗекту М. ЕккАптаг Ри^агггуоту е^акрфоицстаь Кюvoтаvтwoш:oA,l<;, 1900. Е. 141.
- РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1628 г. № 1. Л. 97-98.
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1629 г. № 21. Л. 101-17, 27-28.
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1628-1629 гг. № 23. Л. 37-38.
- РГАДА. Ф. 89. Оп.1. Кн. 6. Л. 167 об.-172.
- Там же. Л. 288 об.-295 об.
- Там же. Л. 380-383.
- Βυζάντιος Σ. Δ. Η Κωνσταντινόπολις. Η περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική. Τ. Α΄. Αθήναι, τυπογρ. Ανδρέα Κορομμήλα, 1851; Γεδεών Μ. Εκκλησίαι βυζαντινών εξακριβουμέναι. Κωνσταντινούπολις, 1900. Σ. 61–68.
- Γεδεών Μ. Εκκλησίαι βυζαντινών εξακριβουμέναι. Κωνσταντινούπολις, 1900. Σ. 43–55.
- Вероятно, речь идет о монастыре св. Димитрия Канава около ворот Иоанна Предтечи; см.: Βυζάντιος Σ. Δ. Η Κωνσταντινόπολις. Η περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική. Τ. Α΄. Αθήναι, τυπογρ. Ανδρέα Κορομμήλα, 1851. Σ. 581; Γεδεών Μ. Εκκλησίαι βυζαντινών εξακριβουμέναι. Κωνσταντινούπολις, 1900. Σ. 55–57,
- О приходе Рацеггг| см.: ГеЗеоту М. ЕккАг^аг Ри^агггуоту е^акрфоицеуаь КюvoтavтlvоuпоАl^, 1900. 176 о. Е. 12.
- Речь идет о монастыре Богородицы Камариотиссы, куда в 1639 году было перенесено тело патриарха Кирилла Лукариса [1: 328], [11: 630-631].
- РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1628 г. № 23. Л. 10.
- Бернадцкий М. М. Канонизация патриарха Кирилла I Лукариса и Иерусалимский собор 1672 г. // Богословские труды. 2013. Вып. 45. С. 325-330.
- Заборовский Л. В., Захарьина Н. С. Из документов русских посольств в Османскую империю. Приходо-расходные книги 1630-1631 и 1641-1642 гг. // Связи России с народами Балканского полуострова. Первая половина XVII в. М.: Наука, 1989. С. 240-271.
- Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. М., 2008. Т. 1. 897 с.
- Об орнева З. Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613-1645 гг.). М.: ЯСК, 2020. 272 с.
- Смирнов Н. А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. М.: Издательство МГУ, 1946. Т. 2. 176 с.
- Фонкич Б. Л. Иоанникий Грек (К истории греческой колонии в Москве в первой трети XVII в.). М., 2006. С. 85-110. (Очерки феодальной России. Вып. 10).
- Фонкич Б. Л., Оборнева З. Е. Кирилл Лукарис и Россия (Создание русским правительством системы материальной помощи Христианскому Востоку в 20-х годах XVII в.) // Монфокон. Вып. 4. М., 2017. С. 135-155.
- Hering G . oikou^svikö латршр%ею Kai sùpranaïK^ лоХткг| 1620-1638. Ä0|va, 1992. 477 g.
- Janin R . Les églises et les monastèries des grands centres byzantins. Paris, 1969. 606 p.
- Malamut Е. Le monastere saint-Jean-Prodrome de Petra de Constantinople // Le sacre et son inscription dans l'espace a Byzance et en occident. Etudes comparées sous la direction de Michel Kaplan. Paris, 2001. P. 219-234.
- Todt K.-P. Kyrillos Lukaris // La Theologie byzantine et sa tradition / Dir de C. G. Conticello. Turnhout, 2002. Vol. 2. P. 617-651.
- Κιομουρτζιάν Ι. Τ. Οδοιπορικό στην Πόλη του 1680. Αθήνα, 1992. 149 σ.
- Μήλλας Α. Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως. Ενορίες Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής. Αθήνα, 1996. 767 σ.