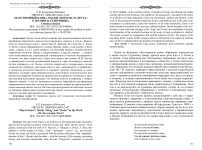"Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина, статья вторая
Автор: Кузнецова Екатерина Валентиновна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ двух взаимосвязанных масок (макрообразов) лирического героя поэзии Северянина, «короля» и «шута». Выявляются их ге-нетические связи с творчеством В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Блока, А. Белого, также обращавшихся к схожим образам «царя», «властелина», «Арлекина», «паяца» и т.д. С одной стороны, эта тенденция связана с художественным отражением учения Ф. Ницше о «сверхчеловеке», а другой стороны, - с концепцией жизнетворчества, по-рождающей литературную и бытовую маскарадность. Отметим, что пара «король-шут» берет свое начало, как доказал М.М. Бахтин, в карнавальной культуре средневековой Европы и через итальянскую комедию del arte добирается и до России. Антитеза «король-шут», кодирующая в поэзии символистов глубинную дихотомию верха и низа, возвышенного и профанного, в творчестве поэта-постсимволиста и сохраняет прежние коннотации, и, одновременно, усиливает свою амбивалентность, констатирует относи-тельность всех ценностных иерархий. Появляется ироническая дистанция по отношению к предшествующей культурной традиции. На примере работы Северянина с макрообразами «короля» и «шута» проясняется механизм пародийной трансформации символистского наследия в поэзии постсимволизма с опорой на сравнительный и стилистический анализ текстов. Поэтика предшествующей поэтической системы (устойчивые образы-маски) осмысляется как объект эстетической игры, которая ведется с позиции присвоения-отталкивания.
И. северянин, король, шут, символизм, постсимволизм, пародийная трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149127074
IDR: 149127074 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00046
Текст научной статьи "Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина, статья вторая
Одним из факторов, обусловивших ранее обращение символистов к маске «шута» (Арлекина, паяца), прежде всего речь идет о А. Блоке и А. Белом, стала рефлексия над собственным творческим методом, жизненным предназначением и положением в обществе, а также стремление к театрализации жизни и искусства, связанная с концепцией жизнетворче-ства. Напомним, что согласно выводам первой части нашей статьи [Кузнецова 2017 Ь] «король» маркирует представление о высокой теургической миссии собственного служения искусству, тогда как травестирующий его «шут» становится символом самоиронии и маркером того, как со стороны, в социуме, с позиции приземляющего быте видят поэт-теурга окружающие. Раздумья над поэтическими приемами и темами, а также над своим местом в поэтической иерархии были свойственны и Северянину Хотя они и не выплеснулись на страницы критических статей, но он оставил несколько стихотворений, обращенных к читателю и поясняющих игровую природу собственного творческого метода.
Помимо более или менее прямых высказываний о себе как о «лирическом иронике», например, в стихотворении «Двусмысленная слава», в ряде текстов размышления о природе своего творчества выражены завуалированно. В раннем стихотворении «Интродукция. Триолет» 1909 г. с помощью архетипичного амбивалентного образа «короля-шута» поэт, возможно, проясняет пародийную, генетически связанную с карнавальным началом, природу своей доэмигрантской поэзии. Король Северянина легко и быстро оборачивается шутом, его травестирующим, а шут оказывается королем:
За струнной изгородью лиры Живет неведомый паяц. Его палаццо из палацц -За струнной изгородью лиры... Как он смешит пигмеев мира, Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры
Рыдает царственный паяц [Северянин 2014, 86].
Об исключительной важности этого небольшого произведения говорит его расположение в самом начале раздела, названного по первой строке стихотворения «За струнной изгородью лиры». Стихотворение открывает эту часть сборника, как бы обуславливая ракурс прочтения всех последующих текстов. Объединение масок «короля» и «шута» происходит в пределах одного словосочетания: «царственный паяц».
С одной стороны, перед нами аллюзия на образы популярной в России в начале XX в. оперы итальянского композитора Леонковалло «Паяцы». По ее сюжету главный герой вынужден играть на сцене в комедии в роли паяца. Он смешит людей, «пигмеев мира», и «хохот сотрясает плац» в тот момент, когда сам актер-шут плачет, рыдает в душе «невидимыми миру слезами», оплакивая свою преданную любовь. С оперным искусством меломан-Северянин был знаком очень хорошо. Об этом свидетельствуют, например, факты приведенные А.Е. Секриеру [Секриеру 2011, 82].
С другой стороны, учитывая время создания стихотворения, в нем мог отразиться и образ «Красного паяца-Арлекина-шута» из стихотворений А. Блока и А. Белого, над которым также зачастую потешается толпа, в то время как душу его наполняют жестокие терзания. Предшествующая символистская поэтическая традиция становится для Северянина таким же источником образов, как и музыкальные произведения. В качестве примера младо символистской «арлекинады» можно привести стихотворение А. Блока 1904 г. «В час, когда пьянеют нарциссы...», в котором создается яркий образ страдающего на глазах у зрителей паяца, Арлекина, «забывшего о роли»:
<.. > Арлекин, забывший о роли?
Ты, моя тихоокая лань?
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений легкую дань?
Я, паяц, у блестящей рампы Возникаю в открытый люк. Это бездна смотрит сквозь лампы Ненасытно-жадный паук.
И, пока пьянеют нарциссы, Я кривляюсь, крутясь и звеня... Но в тени последней кулисы Кто-то плачет, жалея меня [Блок 1980, 322] ...
Отметим, что ирония и самоирония проявляется в образе паяца еще в поэзии младо символистов, но у Северянина они имеют иную природу
З.Г. Минц, анализируя функции «арлекинады» в творчестве А. Блока периода «Стихов о Прекрасной Даме» и «Балаганчика», пишет, что сначала это выражение романтической иронии, «а позднее “арлекинада”, ирония мыслятся как сила эсхатологического разрушения мира в целом» [Минц 1999, 562]. Ирония Северянина направлена уже на стиль символистской поэзии, пародийному обыгрыванию подвергается сам образ «страдающего паяца», ставший, благодаря своей популярности, расхожим клише в культуре Серебряного века.
Не мог столь чуткий к чужой стилистике автор оставить незамеченным столь яркий и запоминающийся образ страдающего на глазах у толпы шута, паяца, героя популярной оперы «Паяцы», масленичных балаганных представлений и «арлекинады» А. Блока и А. Белого [Обухова-Зелиньская 2015; Наседкина 2015]. И вот в 1910 г. он снова обращается к этому образу в стихотворении «Увертюра», включенном во вторую книгу «Златолира» и открывающем раздел «Колье принцессы»:
<.. > Колье принцессы - небес палаццо, Насмешка, горечь, любовь, грехи, Гримаса боли в глазах паяца...
Колье принцессы - мои стихи.
Колье принцессы, колье принцессы...
Но кто принцесса, но кто же та - Кому все гимны, кому все мессы?
Моя принцесса - моя Мечта! [Северянин 2014, 178]
Данный текст также представляет собой обобщение, некий условный слепок с сюжета романтической оперы, в которой зачастую действуют сказочные принцессы, короли и шуты. О влиянии оперы свидетельствует название «Увертюра», музыкальный термин, обозначающий прелюдию к оперному представлению, и словосочетание «аккорды лиры», использованное и в своем прямом (аккорды музыки) и в переносном значении (аккорды вдохновения). Но снова мы наблюдаем отзвуки символистской поэтики. Образ «принцессы-Мечты», которой поются «все гимны», служатся «все мессы», несет в себе черты Прекрасной Дамы, Софии, Вечной Женственности, предмета усердного поклонения молодых А. Блока и А. Белого. Если возлюбленная героя - Прекрасная Дама, то сам герой Северянина в этом тексте закономерно превращается в корчащегося от боли паяца, несчастного влюбленного Пьеро, также героя ряда произведений младосимволистов.
На примере этого стихотворения удобно рассмотреть, как «работает» поэт с исконными поэтическими «словами-сигналами» по терминологии Л.Я. Гинзбург [Гинзбург 1995]. Северянин достигает комического эффекта смешением традиционных поэтизмов, таких как «лиры», «венки», «созвездия», «небеса», со словами не из поэтического словаря рус- ской классической лирики, иностранными заимствованиями, например, «колье», «палаццо», «ювелиры». Слово «лира» еще в поэтическом языке начала XIX в. утратило свое предметное значение и стало использоваться как абстрактное обозначение поэтического творчества. Создавая словосочетание «аккорды лиры», Северянин реализует метафору, «лира» снова превращается в музыкальный инструмент, на котором «играет» боговдохновенный поэт-певец. Таким способом поэт добивается стилистического эффекта, который О.Б. Кушлина определила как «изящная банальность» и «откровенная вульгарность» [Кушлина 1993 Ь, 117]. Таким приемом пользовался еще В. Брюсов, например, в уже цитированном в первой части нашей статьи стихотворении «Возвращении», ради расширения «художественной впечатлительности», но у Северянина это превращается уже в ироническую игру.
Рассмотренная нами антитеза «король-шут» является лишь одним из примеров работы поэта с наследием символизма, направленной, в конечном счете, на обновление русского поэтического языка. Макрообраз «короля» в творчестве Северянина выступает в пародийной функции, обыгрывая соответствующие темы и мотивы «высокой» лирики романтиков и символистов: образы «поэта-короля», «поэта-пророка», «властелина волшебной страны», «властителя-де спота» и т.д. Маска «шута-паяца» связана как с ироническим пафосом, так и с аспектом рефлексии. Заостряя театрально-маскарадные образы младосимволистов, она одновременно выражает самоощущение Северянина, осознававшего свою «двусмысленную славу» и такое же положение в поэтической иерархии Серебряного века. Маска «шута» также указывает читателю на «двойное дно» и возможное пародийное прочтение его произведений.
Правомерность подобных выводов может подтверждаться предельной литературностью, «сделанностью» северянинских поэз, состоящих из обрывков модернистского дискурса, а именно чужой стиль, ставший содержанием нового текста, и создает, по Ю. Тынянову, пародию [Тынянов 1977 Ь, 198-227]. Основными маркерами пародийного использования поэтом символистских образов являются специфические художественные средства: поэтика парадокса, абсурда и двусмысленности, имитация «наивного» стихотворства, стилистическое смешение «высоких» поэтизмов и разговорной, прозаической лексики, буквализация содержания, утрирование и гиперболизация образов и т.д. Но самое главное - это ироническая точка зрения автора, которая ощутимо присутствует в тексте и с позиции которой ведется переосмысление масок символизма. Тонкую грань между явлениями стилизации и пародии весьма точно определил Ю. Тынянов: «Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двойной жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. <...> ...Стилизация комически мотивированная или подчеркнутая, становится пародией» [Тынянов 1977 а, 201]. На наш взгляд, Северянин делает этот шаг, отделяющий стилизацию от пародии. Во многом это было обусловлено определенной тенденцией в литературе Сере- бряного века, М.В. Козьменко и Д.М. Магомедова пишут, что стилизация становится настолько «концентрированной», «что при приложении к ней стилевых критериев прошлого столетия либо оказалась бы (и оказалась в оценках отдельных критиков) за пределами эстетического вкуса, либо была бы воспринята в чисто пародийном ключе» (курсив мой -Е.К.) [Козьменко, Магомедова 2009, 85].
«Концентрированные» стилизации Северянина были действительно восприняты многими критиками как находящиеся за гранью хорошего вкуса, но мы предлагаем посмотреть на них, как на тексты, имплицитно содержащие в себе пародийность в широком смысле слова.
На наш взгляд, в «извращенном лике» поэзии Северянина, в котором, по мнению К. Мочульского, «изживается культура русского символизма» [Мочульский 2005, 547], заключается не ущербность, а новаторство и достоинство лирики автора «Громокипящего кубка» дореволюционного периода, состоящее в ироническом преломлении и переакцентуализации тем, мотивов, образов и масок символистов, которые лишаются, прежде всего, своего философского и мировоззренческого наполнения, используются уже вне связи с дихотомией быта и бытия, сакрального и профанного. Отмечал эту особенность постсимволистской поэзии еще В.М. Жирмунский: «...Словесные завоевания символизма сохраняются, культивируются и видоизменяются для передачи нового душевного настроения, зато душевное настроение, породившее эти завоевания, отбрасывается как надоевшее, утомительное и ненужное» [Жирмунский 1977, 109]. То, что проживалось символистами, уже проигрывалось Северяниным, но это было предопределено тем, что поэзии вступала в новый авангардный этап своего развития. Отметим, что именно как фактор литературной эволюции пародийность так интересовала Ю. Тынянова: «Эволюция литературы, в частности поэзии, совершается не только путем изобретения новых форм, но и, главным образом, путем применения старых форм в новой функции. Здесь играет свою роль, так сказать учебную, экспериментальную, и подражание, и пародия. <.. .> Обнажение условности, раскрытие речевого поведения, речевой позы - огромная эволюционная работа, проделываемая пародией» [Тынянов 1977 Ь, 293; 310].
Приемы пародии как нельзя лучше подошли для того, чтобы объективировать наследие модернизма 1890-х - 1900-х гг, воплотить его уже не как целостную мистико-философскую и эстетическую систему, а как дискурс, набор штампов, клише, мифологем и т.д. Еще до опыта Северянина поэтика новой модернистской лирики была высвечена в многочисленных пародиях современников. Достаточно вспомнить знаменитые три пародии на декадентов Вл. Соловьева, в каждой из которых работает один и тот же механизм: философское содержание символистской поэзии предстает бессмыслицей, а формальные приемы (пристрастие к немотивированным и необычным цветовым эпитетам, бестиарные метафоры, поэтика повторов) гиперболизируются и доводятся до абсурда. Нечто подобное с той или иной степенью талантливости проводилось и другими авторами:
С. Горным, А. Измайловым, В. Бурениным, К. Чуковским и т.д. Пародии становятся массовым чтением, выходят целые сборники («Кривое зеркало» А. Измайлова, «Незлобивые пародии» Авеля). Возникновение новой поэзии, дразнящей своим необычным поэтическим арсеналом, спровоцировало пародийный отклик на нее [Тяпков 1980; Тяпков 1984; Кушлина 1993 а]. Выскажем предположение, что поэтика символизма усваивалась Северяниным не только по первоисточникам, хотя известно, что Брюсова, Бальмонта и Сологуба он прочел досконально, но и через посредничество карикатурившей ее литературной пародии [Кузнецова 2017 а; Кузнецова 2018].
После того как Северянин довел ироническую игру в короля и шута до предела, стало более невозможным всерьез обращаться к этим маскам, эксплуатировать их вне иронической дистанции. Антитеза «король-шут», кодирующая в творчестве символистов глубинную дихотомию верха и низа, возвышенного и профанного, в творчестве поэта-постсимволиста демонстрирует свою амбивалентность, относительность всех ценностных иерархий. Как справедливо указывает К.Г. Исупов: «В иронически-игровой поэзии Северянина состоялось самоотрицание декаданса (курсив мой - Е.К.) не путем прямого присвоения его ценностей, а в театрализованном (трагическом по существу) отстраненно-эстрадном изживании его как особого стиля жизни и стиля поэтического мышления» [Исупов 1987, 18].
Подобная литературная стратегия применялась поэтом не для создания комических текстов ради развлечения скучающий публики и не ради литературной критики противников с точки зрения представителя другого литературного лагеря, как это делал, например, В. Буренин, а для создания собственных оригинальных текстов и завоевания места на поэтическом «Олимпе». Но именно обращение к пародийной поэтике повлекло за собой столь противоречивые оценки творчества Северянина в прижизненной критике и трудности с определением положения поэта в иерархии литераторов начала XX в., которые не преодолены полностью до сих пор.
Список литературы "Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина, статья вторая
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1995.
- Жирмунский В.М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 112-121.
- Исупов К.Г. Историко-бытовые архетипы в творческом поведении Северянина // О Игоре Северянине. Череповец, 1987. С. 14-18.
- Козьменко М.В., Магомедова Д.М. Стилизация как фактор динамики жанровой системы // Поэтика русской литературы конца XIX - начала ХХ века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М., 2009. С. 77-149.
- Кузнецова Е.В. Поэтика И. Северянина и литературная пародия начала ХХ в. // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 1. С. 220-244.
- Kузнецова Е.В. Поэтика пародийности в доэмигрантском творчестве Игоря Северянина // Russian Literature. 2018. № 95. С. 33-62.
- Кушлина О.Б. Наследники Гиппонакта // Русская литература ХХ века в зеркале пародии: антология.
- Кушлина О.Б. Уж не пародия ли он? // Русская литература ХХ века в зер-кале пародии: антология. М., 1993. С. 116-119.
- Минц З.Г. В смысловом пространстве «Балаганчика» // Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 558-568.
- Мочульский К. Игорь Северянин. Менестрель. Новейшие поэзы // Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб., 2005. С. 543-547.
- Обухова-Зелиньская И.В. Персонажи commedia dell'arte в культуре русского модернизма (живопись-театр-периодика) // «Вечные» сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма. М., 2015. С. 314-330.
- Наседкина Е.В. «Одержимый или пророк»: трансформация образов Арле-кина, безумца, Христа и шута в творчестве и прижизненной иконографии Андрея Белого // «Вечные» сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма. М., 2015. С. 356-372.
- Секриеру А.Е. Игорь Северянин. Грани стиля. М., 2011.
- Тяпков С.Н. Русские символисты в литературных пародиях современников. Иваново, 1980.
- Тяпков С.Н. Русские футуристы и акмеисты в литературных пародиях современников. Иваново, 1984.