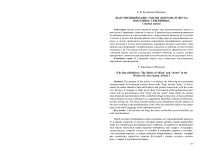"Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина. Статья первая
Автор: Кузнецова Екатерина Валентиновна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ двух взаимосвязанных масок героя поэзии Северянина: «короля» и «шута». В процессе исследования выявляются их амбивалентность и генетическая связь с творчеством В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Блока, А. Белого. На примере работы поэта-эгофутуриста с макрообразами «короля» и «шута» проясняется механизм пародийной трансформации символистского наследия в поэзии постсимволизма, маркерами которого выступают такие приемы как утрирование, гиперболизация, доведение до абсурда, стилистическое смешение и др. Основным методом исследования является сравнительно-стилистический анализ текстов, в результате которого отмечены те сдвиги, которые претерпевает символистская традиция в поэтическом языке последующей эпохи.
И. северянин, король, шут, символизм, постсимволизм, пародийная трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/14914646
IDR: 14914646
Текст научной статьи "Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина. Статья первая
Герой поэзии Северянина в ряде ключевых его произведений предстает в масках «короля» и «шута», которые можно назвать также макрообразами его творчества доэмигрантского периода. К первой из вышеназванных масок относятся такие лексемы-синонимы, как «царь», «государь», «властитель», отчасти «эстет» и «гений» в значении «король в поэзии», «поэтический король», а также смежные микрообразы: «венец», «порфира», «скипетр», «престол», «свита». Ко второй - «паяц», «клоун», «скоморох», «лирик в дурацком колпаке».
Маски «короля» и «шута» оказываются в системе образов поэта взаимосвязаны и амбивалентны, они образуют антиномичную пару Генезис данной антитезы уходит своими корнями в поэтическое творчество символистов, пронизанное мотивами театральности и маскарада (хотя и к символистам эта пара пришла из предшествующей литературной и культурной традиции). В.Н. Виноградова, анализируя стилистику поэта, пишет об общем для всех футуристов тяготении «к контрастам трагического и комического» и столкновению высокого и низкого1. Можно предположить, это приводило к актуализации в их творчестве масок «короля» и «шута», важных, например, для В. Маяковского.
М.М. Бахтин первым осмыслил взаимосвязь в культуре данных ролей и их функции в народно-праздничной системе образов: «В этой системе образов король есть шут. Его всенародно избирают, но затем всенародно же осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования пройдет... <.. > Если шута первоначально обряжали королем, то теперь, когда его царство прошло, его переодевают, “травестируют” в шутовской наряд»2. Согласно выводам М.М. Бахтина, в фольклоре и в художественных произведениях, воспроизводящих карнавальный хронотоп или генетически с ним связанных, шут всегда одновременно король, пародирует его функции, выступая в его роли властителя, а король в любой момент может подвергнуться развенчанию и обернуться шутом. На наш взгляд, в художественных установках русского модернизма, нацеленного на стирание границ между жизнью и иными реальностями (праздничным временем, миром искусства, сценическим или культовым действом), можно обнаружить сходство с законами карнавала в бахтинской интерпретации.
Безусловно, вся эпоха модернизма в целом, с ее игровым началом, противопоставленным миметическому принципу классической литературы русского реализма, располагала Северянина к игре масками и амбивалентному перевоплощению то в короля, то в шута, как в поэзии, так и в жизни (сценический образ «гения», «короля поэтов»3). Шутовское и эпатажное поведение как модель публичного амплуа было достаточно популярно среди деятелей культуры русского Серебряного века. По мнению Л.А. Сафроновой, маскирование - общая идея Серебряного века, который стремился разрушить границу между искусством и жизнью, выстроить жизнь по законам искусства. Маске тогда отводилась роль идеального самовыражения человека, «продолжения лица»: «Проблема маски и лица в начале XX в. - это проблема лицедейства, маскарада в жизни каждого человека»4.
В поэзии В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Блока, А. Белого макрообразы «короля» и «шута» (Арлекина, паяца) также представлены достаточно широко5, именно через их поэзию эти образы, в том числе, заимствуются в поэтический арсенал футуристов. Маски «короля» и «шута» маркируют представления о человеческой личности и о поэте-творце, которые предстают раздвоенными между миром быта и бытия, высоким пафосом и приземляющей самоиронией. Соответственно, образ «короля» относится к области представлений о высоком служении искусству и надежде на преображение с его помощью всего мира, а «шут» художественно воплощает жизненную неустроенность поэта, невостребованность его творчества обществом, нелепость и комичность его притязаний на высокую миссию.
Переклички между творчеством Северянина и поэтикой символистов, как старшего, так и младшего поколений, отмечали еще некоторые современники6. Критик и литературовед К. Мочульский в статье 1921 г. также рассуждал об этих пересечениях и оценивал это явление в поэзии Северянина однозначно негативно, как характеризующую поэта неоригиналь-ность, подражательность: «Так поэзия Северянина препарирует “изыски” символической школы, фабрикуя из них популярное издание “для всех”. (Пора популярить изыски! - Мороженое из сирени). <...> В творчестве И. Северянина в искаженном и извращенном лике изживается культура русского символизма. <...> Солнечные дерзания и “соловьиные трели” Бальмонта, демоническая эротика Брюсова, эстетизм Белого, Гиппиус и Кузмина, поэзия города Блока - все это слилось во всеобъемлющей пошлости И. Северянина»7.
Перед исследователем творчества поэта встает проблема беспристрастной оценки того, в каких же связях находится его поэзия с наследием символизма. Этот вопрос на примере анализа перекличек между творчеством поэта-эгофутуриста, с одной стороны, и поэзией Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, с другой, был поставлен, например, в диссертации и ряде статей С.А. Викторовой8. Но решается он без учета того «сдвига», который совершается в поэтике постсимволизма по отношению к символизму, причем у футуристов гораздо ощутимее, чем, например, у акмеистов9. В работах С.А. Викторовой Северянин предстает как продолжатель начинаний символизма, интерпретирующий их топосы, развивающий мотивы и темы, тогда как, на наш взгляд, необходимо говорить о трансформации им особым способом символистского наследия.
Пародийный механизм этой трансформации был почувствован еще современниками поэта. Можно привести проницательное суждение Н. Гумилева о первых сборниках начинающего поэта, перекликающееся с тезисом Ю. Тынянова о существовании особых, «некомических пародий», которые могут быть приняты за «серьезные» и даже лирические произведения: «Пусть за всеми “новаторским” мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова, но ведь для людей газеты и Козьма Прутков нисколько не комичен, недаром кто-то из них принял всерьез “Вампуку”»10. Зинаида Гиппиус весьма язвительно, но в чем-то точно, описала взаимоотношения Игоря Северянина и Валерия Брюсова в своих воспоминаниях: «Брюсовская обезьяна народилась в виде И. Северянина»11. Отринув оценочный характер данного суждения, отметим, что 3. Гиппиус не называет молодого поэта эпигоном или подражателем, а подбирает сравнение, в котором содержится значение трансформации, искаженного отражения. «Пародистом Бальмонта» именует Северянина М. Горький12. Вероятно, современники видели основания для подобных оценок в его творчестве.
Некоторые исследователи футуризма заметили, что образы и мотивы Северянина, как бы много общего с символистскими они ни имели, не представляют собой подражаний, стилизаций или развития тех же тем и топосов, а отличаются пародийной окраской. По мнению В.Н. Альфонсо-ва, например, красочные фантазии Северянина о Миррэлии, стране Мечты, нельзя воспринимать всерьез, как подобные же иллюзии Ф. Сологуба или А. Белого: «Греза, мечта получают свойство пародийности (курсив мой - Е.К.\ игра ведется не только с читателем, но и с самим собой»13. Вопросом о пародийности северянинской поэтики задается и О.Б. Кушли-на в статье, предваряющей подборку пародий на самого поэта14. Ценным для нашего подхода является также замечание Л. Куклина: «Игорь Северянин - первый из русских поэтов, сознательно и надолго одевший эстрадную маску»15. В.Н. Терехина и Н.И. Шубникова-Гусева отмечают: «Поэтическое преобразование реального мира в “Миррэлию” нивелировало ценности окружающего, поэтому в поэзии Северянина появляется ирония, травестирование символистских образов (курсив мой - Е.К.) <...> Мир-рэлия становится больше похожа на планету Иронию»16. Причем иронизирование оказывается направлено как на окружающую действительность, так и образы символистов.
На наш взгляд, В.Н. Альфонсов, О.Б. Кушлина, В.Н. Терехина и Н.И. Шубникова-Гусева высказали очень точные наблюдения, но они все еще требуют доказательств с помощью сравнительно-сопоставительного и стилистического анализа конкретных текстов. Важной для нас является и теория Ю. Тынянова о существовании «некомических», скрытых, завуалированных пародий, те. текстов, не несущих элементов прямого комизма, но при этом все же двуплановых и направленных на некий текст или стиль17. В данной статье мы хотели бы коснуться только двух образов-масок - «короля» и «шута», генетически связанных с карнавальными истоками пародии, и на их примере продемонстрировать пародийную тенденцию в творчестве И. Северянина доэмигрантского периода.
Если у В. Брюсова образ «поэта-короля» создается, в том числе, за счет рассуждений о природе творчества и своем лирическом даре, то у его пародийного двойника Северянина, каким его считала 3. Гиппиус, самопро-возглашение и самовосхваление доводится до абсурда, например, в программном стихотворении «Эпилог»18:
Я, гений Игорь Северянин, Своей победой упоен: Я повсеградно оэкранен! Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру Черту упорную провел. Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!<...
Схожу насмешливо с престола И, ныне светлый пилигрим, Иду в застенчивые долы, Презрев ошеломленный Рим''...
Перед нами не просто самоутверждение поэта или поза, гиперболизирующая некоторые заявления и притязания поэтов-символистов на исключительность или на собственную гениальность (помимо В. Брюсова, в этой связи нужно упомянуть еще К. Бальмонта). В приведенном тексте множество аллюзий на стихотворения старших современников Северянина, в которых, так или иначе, отразился образ «царя», «короля», «властелина». Но обращает на себя внимание характерный жест, собственно и ставший темой стихотворения, - демонстративный отказ от власти: «Схожу насмешливо с престола». По мнению Н.В. Мокиной, такой жест был яркой чертой поэтики В. Брюсова: «Однако высшим воплощением этой “жажды всевластия”, которую разделяют с поэтом и все его персонажи, становится не увенчание царским венцом, а отказ от него»20. Наиболее интересным представляется брюсовское «Возвращение», написанное в манере, странно напоминающей северянинскую, хотя в 1900 г. последний еще никаких стихотворений не писал:
Я убежал от пышных брашен, От плясок сладострастных дев, Туда, где мир уныл и страшен; Там жил, прельщения презрев.
Бродил, свободный, одичалый, Таился в норах давней мглы;
Меня приветствовали скалы, Со мной соседили орлы.<.. >
И много зим я был в пустыне, Покорно преданный Мечте...
Но был мне глас. И снова ныне Я - в шуме слов, я - в суете.
Надел я прежнюю порфиру, Умастил мирром волоса.
Едва предстал я, гордый, пиру, «Ты царь!» - решили голоса21...
Целый ряд слов из старославянского и церковно-религиозного лексикона («брашно», «дева», «прельщение», «глас», «порфира», «мирро») со- седствует с просторечиями («волоса»), неологизмами («соседили») или прозаизмами («норы»). Достаточно прозрачно в тексте проводится подспудное сравнение лирического героя с Христом (мотив «гласа в пустыне», например). В. Брюсов создает эффект стилистического смешения, в котором позже критики обвиняли Северянина. Некоторые строки В. Брюсова даже вызывают улыбку, хотя могут навлечь и обвинение в безвкусице: «Умастил мирром волоса».
На наш взгляд, «Эпилог» Северянина следует рассматривать не как подражание, а как «двусмысленный текст», имплицитно содержащий пародийную интенцию, направленную на соответствующие произведения В. Брюсова, в том числе на стихотворение «Возвращение» с мотивом отрекающегося короля. Второе и третье четверостишия «Эпилога» обращаются также к образу Христа, исцелявшего слепых, призывавшего идти за ним зрячих и преданного Иудой: «Среди друзей я зрел Иуду...». Как мы видим, то, что у В. Брюсова не названо и подразумевается, высказывается Северяниным предельно откровенно, как и писала 3. Гиппиус в своих воспоминаниях.
Одно из следующих четверостиший анализируемого произведения заканчивается топонимом «Рим», набранным курсивом и стоящим в сильной ударной позиции. Курсив в поэтической речи в то время означал реминисценцию, ссылку на «чужое слово». Не закодирована ли в этих строках Северянина аллюзия на стихотворение Ф. Сологуба «Нерон сказал богам державным...», первое четверостишие которого заканчивается такой же лексемой: «Нерон сказал богам державным: / “Мы торжествуем и царим!” / И под ярмом его бесславным / Клонился долго гордый Рим»22.
Совпадает и размер обоих стихотворений - четырехстопный ямб, мелодика текстов также идентична. Таким образом, Северянин, возможно, использует скрытое сравнение своего героя с Нероном, тогда отречение его от поэтического престола сопоставляется по ошеломляющему эффекту с никогда не происходившем на самом деле отречением античного тирана.
Излюбленным приемом поэта является гиперболизация образов, утрированная категоричность во всех заявлениях, что также свидетельствует в пользу пародийности, лежащей в основании его поэтического метода. Приведем высказывание В.И. Новикова: «Все, что делает пародист, - это преувеличение. Он преувеличивает, когда заменяет поэтическую лексику прозаической или прозаическую поэтической, когда переносит приемы пародируемого автора на другой, контрастирующий материал, <...> когда буквально “цитирует” пародируемый текст, иронически его переосмысляя (курсив мой -Е.К.), когда доводит авторские излюбленные приемы до абсурда, заменяя смелые (или претендующие на смелость) образы и выражения явной бессмыслицей»23.
«Прощальная поэза» 1912 г. с подзаголовком «Ответ Валерию Брюсову на его послание» снова обыгрывает королевские регалии, титулы и прочие атрибуты высшей власти, которыми пестрят послания А. Белого тому же В. Брюсову, например, «сюита» «Брюсов» 1904 г. или стихотворе-122
ние «Туманы, пропасти и гроты...» 1909 г. И снова Северянин вызывающе прямолинеен в своем произведении:
Я так устал от льстивой свиты И от мучительных похвал...
Мне скучен королевский титул, Которым Бог меня венчал.
Вокруг талантливые трусы И обнаглевшая бездарь... И только Вы, Валерий Брюсов, Как некий равный государь...
Не ученик и не учитель,
Над чернью властвовать устав, Иду в природу, как в обитель, Петь свой осмеянный устав24...
Поэт категорично именует всех своих современников-литераторов «талантливыми трусами» и «обнаглевшей бездарью», делая исключение лишь для адресата послания. И в «Эпилоге» и в «Прощальной поэзе» ироническая игра заключена уже в самих названиях: поэт декларирует отказ от «надоевшей» поэтической славы, когда она на деле в 1909 г. так желанна, еще не вполне завоевана, и уходить с поэтического Олимпа он вовсе не собирается. При этом Северянин снова заимствует мотив отречения, отказа от королевской власти, столь свойственный В. Брюсову, обставляя его аллюзиями на отречения подлинных монархов, которые зачастую были связаны с угрозой ухода в монастырь: «Иду в природу, как в обитель».
Но эмоциональная тональность стихотворения эгофутуриста иная, нежели в произведениях В. Брюсова. Стихия иронии царит в его строках, а скрытый трагизм, мучительные сомнения в своем предназначении, которые проникают в тексты символистов с образом «поэта-короля», изгнаны из стихов Северянина с этой же маской. Игра с традицией проявляется в коллажности его поэтики, соединении мотивов романтизма (отверженность, изгнанничество) и декадентства (уход в природу, в царство Мечты).
Стихотворение «Поэза королеве» 1915 г. можно прочесть как пародийную вариацию на схожие символистские мотивы: образ «поэта-короля», стоящего над людьми, «на горах», по выражению А. Белого, мифотворчество символистов и их притязания на пророческую миссию:
Моя ль душа - душа не короля?
В ней в бурю, - колыханье корабля. <.. >
Тенденциозной узости идей,
Столь свойственной натуре всех людей,
Не признаю, надменно их призрев, В поэзии своей ни прав, ни лев...
Одно есть убежденье у меня: Не ведать убеждений. Не кляня, Благословлять убожество - затем, Дабы изъять его навек из тем...
Я не люблю людей, но я им рад, Когда они мне рады - вот мой взгляд. Не верю им и гордо, свысока, Смотрю на них, к тому ж издалека.<.. >
К стоит мне сильнее захотеть, -И будут люди вечно жить и петь, Забыв про смерть, страдание и боль: Ведь я поэт - всех королей король!25
Этот текст - характерный пример «двусмысленной» поэзии автора «Громокипящего кубка». С одной стороны, перед нами опять самопровоз-глашение себя поэтическим королем, а с другой стороны, в лексическую ткань текста тонко вплетены намеки на подлинную сущность творчества Северянина, его настоящих эстетических установок. В своих стихах, утрируя, доводя до абсурда поэтические образы, уже утратившие свою новизну, он как бы «благословляет убожество», «дабы изъять его навек из тем», т.е. для того, чтобы омертвевшие формы искусства, ставшие клише, заменились новыми.
Художественная экспрессия текста достигается за счет иронической игры поэта с таким литературным жанром, как афоризм, ставшим популярным на рубеже веков благодаря остроумным и парадоксальным высказываниям Оскара Уайльда (книгу с афоризмами О. Уайльда подарила в 1913 г. поэту Ан. Чеботаревская)26. Северянин нанизывает целую цепочку зарифмованных, пародийно-парадоксальных афоризмов: «Тенденциозной узости идей, столь свойственной натуре всех людей, не признаю», «Одно есть убежденье у меня: не ведать убеждений», «Я не люблю людей, но я им рад, когда они мне рады»27. О том, что поэт в этом тексте использует поэтику афористических высказываний О. Уайльда, свидетельствует чуть более позднее стихотворение «Афоризмы Уайльда». В нем из всего литературного наследия писателя, который, безусловно, был кумиром целого поколения 1900-х гг, Северянин упоминает лишь афоризмы. Отметим, что в своих публичных выступлениях поэт обращается к образу Уайльда-денди, о чем оставили воспоминания многие современники28.
Поэтика этого и многих других произведений поэта строится на причудливом смешении устойчивых поэтических лексем, «расхожих» фраз, философских клише, жаргонизмов, экзотизмов, газетизмов, «галантерейного» языка, оксюморонов и пр.29 Столь разработанный арсенал средств 124
художественной выразительности свидетельствует о повышенном внимании Северянина к форме своих произведений. А это, в свою очередь, может быть связано не только с установкой на футуристично сть, а еще и с пародийностью. По мнению В .Я. Проппа, имитация «внешних признаков любого жизненного явления (манер человека, приемов искусства и пр.), чем совершенно затмевается или отрицается внутренний смысл того, что подвергается пародированию», а также перенесение внимания с того, что сказано, на то, как это сказано, те. с содержания на форму, являются отличительными признаками именно пародийного текста30. Северянин, с одной стороны, отчасти имитирует приемы и топику символистов, с другой стороны, он смещает акценты, создавая характерную для авангарда поэтику «сдвига», и в его случае этот «сдвиг» состоит в снижении и профанации высоких образов символизма. Установка на травестирование приводит к закономерному возникновению образа «шута».
Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709).
Список литературы "Царственный паяц": маски "короля" и "шута" в поэзии И. Северянина. Статья первая
- Виноградова В.Н. Игорь Северянин//Очерки истории языка русской поэзии: опыт описания идеостилей. М., 1995. С. 100.
- Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 220.
- Шаповалов М.А. Король поэтов И. Северянин: страницы жизни и творчества (1887-1941). М., 1997.
- Сафронова Л.А. Маска как прием затрудненной идентификации//Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 353.
- Обухова-Зелиньская И.В. Персонажи commedia dell'arte в культуре русского модернизма (живопись-театр-периодика)//«Вечные» сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма. М., 2015. С. 314-330;
- Наседкина Е.В. «Одержимый или пророк»: трансформация образов Арлекина, безумца, Христа и шута в творчестве и прижизненной иконографии Андрея Белого//«Вечные» сюжеты и образы в литера-туре и искусстве русского модернизма. М., 2015. С. 356-372.
- Мочульский К. Игорь Северянин. Менестрель. Новейшие поэзы//Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб., 2005. С. 547.
- Викторова С.А. Игорь Северянин и поэзия Серебряного века (творческие связи и взаимовлияния): дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Ярославль, 2002; Викторова С.А. Поэтический диалог Игоря Северянина и Федора Сологуба//Ярославский педагогический вестник. 2006. № 1. С. 17-18.
- Богомолов Н.А. Постсимволизм (общие замечания)//Русская литература рубежа веков (1890 -начало 1920-х годов): в 2 кн. Кн. 2. М., 2001. C. 381-391;
- Клинг О.А. Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х годов. Проблемы поэтики. М., 2010.
- Альфонсов В.Н. Поэзия русского футуризма//Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы. СПб., 2002. С. 84.
- Кушлина О.Б. Уж не пародия ли он?//Русская литература ХХ века в зеркале пародии. М., 1993. С. 117-118.
- Куклин Л.В. Заглянем за маску//Северянин И. Лирика. Л., 1991. С. 12.
- Шаповалов М.А. Северянин и Брюсов//Северный вестник. 1987. № 6. С. 105-110).
- Мокина Н.В. Архетипическое и эпохальное в образе лирического героя в творчестве поэтов Серебряного века. Саратов, 2003. С. 31.
- Новиков В.И. Книга о пародии. М., 1989. С. 69-70.
- Терехина В.Н., Шубникова-Гусева Н.И. За струнной изгородью лиры…»: научная биография Игоря Северянина. М., 2015;
- Виноградова В.Н. Игорь Северянин//Очерки истории языка русской поэзии: опыт описания идеостилей. М., 1995. С. 100-131.
- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре. М., 2005. С. 72.