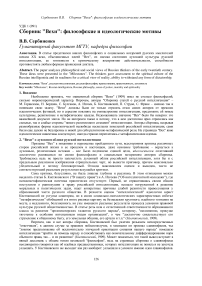Cборник "Вехи": философские и идеологические мотивы
Автор: Сербиненко Вячеслав Владимирович
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ философских и социальных воззрений русских мыслителей начала ХХ века, объединенных идеей "Вех", их оценка состояния духовной культуры русской интеллигенции, ее готовности к критическому восприятию действительности, способности противостоять любым формам проявления диктата.
"вехи", русская интеллигенция, русская философия, правосознание, нравственность, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/14294416
IDR: 14294416
Текст научной статьи Cборник "Вехи": философские и идеологические мотивы
-
1. Введение
Необходимо признать, что знаменитый сборник "Вехи" (1909) имел не столько философский, сколько мировоззренческий характер. Впрочем, авторы "Сборника статей о русской интеллигенции" – М. Гершензон, Н. Бердяев, С. Булгаков, А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Струве, С. Франк – именно так и понимали свою задачу. "Вехи" должны были не только отразить отказ самих авторов от прежних идеологических фетишей, но и серьезно повлиять на умонастроение интеллигенции, предложить ей новые культурные, религиозные и метафизические идеалы. Недооценивать значение "Вех" было бы неверно: это важнейший документ эпохи. Но он интересен также и потому, что в нем достаточно ярко отразились как сильные, так и слабые стороны "нового религиозного сознания" интеллигенции. Авторы сборника, вскрывая разнообразные формы идеологической несвободы нескольких поколений российской интеллигенции, сами были еще далеко не безупречны в новой для себя религиозно-метафизической роли. На страницах "Вех" явно идеологические инвективы соседствуют, иногда странно переплетаясь с метафизическими идеями.
-
2. "Вехи" о духовном облике русской интеллигенции
Призывы "Вех" к покаянию и переоценке пройденного пути, всесторонняя критика различных сторон российской жизни в ее прошлом и настоящем, даже основное требование – вернуться к духовным, религиозным истокам – все было подчинено единой цели, идеологически сплотившей достаточно разнящихся по своим философским и социальным воззрениям авторов сборника. Требовалось ведь не просто запечатлеть духовный облик российской интеллигенции, хотя бы и с предельным реализмом изображения отрицательных черт, но вынести приговор, причем максимально убедительный и потому бесповоротный. Отсюда максимализм оценок и выводов, часто не соответствующий реальным результатам ведущейся критики.
Сама критика, безусловно, не была лишена глубины и реализма. В этом отношении можно выделить статьи Б. Кистяковского ("В защиту права") и А. Изгоева ("Об интеллигентной молодежи"), где псевдометафизическая патетика практически отсутствует. Первый, не ограничиваясь своим общим постулатом о равнодушии к праву российской интеллигенции, всецело погруженной в решение моральных и политических задач, ищет конкретные причины слабой развитости правосознания у образованной части русского общества. В резкости оценок "интеллигентской" идеологии юрист Кистяковский не уступал соавторам, но в своих социально-психологических характеристиках избегал "метафизических" обобщений и в итоге рисовал картину не безнадежно кругового, идейного топтания на месте, а медленного, болезненного, но уже имевшего реальные результаты процесса усвоения правовой культуры русской общественностью. В статье речь шла о естественной ответственности образованного класса за развитие "организаторских талантов русского народа", которому, "несомненно, присуще тяготение к особенно интенсивным видам организации", о чем "достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его земельная община, его артели и т.п." ( Кистяковский , 1909).
Впрочем, как и все авторы сборника, Кистяковский был увлечен розыском непосредственных "ответчиков", в данном случае за правовое неблагополучие, и таковыми он признал славянофилов, чье "ложное предположение об исключительно этической ориентации сознания нашего народа" помешало интеллигенции "прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так… и их развитию" ( Кистяковский , 1909). Может показаться, что такой вывод вступает в явный диссонанс с общим тоном веховской "философии", ведь на страницах сборника о славянофилах неоднократно говорится как об идейных предшественниках, которых интеллигенция не поняла и не захотела услышать. У Кистяковского же выходит как раз наоборот: услышали и усвоили именно идеи славянофилов.
Вестник МГТУ, том 15, №1, 2012 г. стр.126-127
Но если иметь в виду основную тенденцию сборника, то противоречие это кажущееся. В целом либеральнорадикальная школа, которую прошли авторы "Вех", определила направление книги, хотя прежние идеи и приобрели новую традиционалистскую окраску, и была проведена ревизия либерального наследства. Кистяковский "атаковал" славянофилов по прежней схеме, другие же (Бердяев, Булгаков, Гершензон) были склонны ограничиться признанием их культурной роли, религиозно-консервативного значения идеалов.
-
A. Изгоев дал в своей статье своеобразный социологический портрет российского студенчества начала века. В нем немало точных деталей, свидетельствующих о том, как противоречия семейной жизни интеллигенции, сложившаяся система образования и общий моральный климат сказывались на ситуации в молодежной среде. Но надо учесть, что Изгоев (так же как и Кистяковский) писал о проблемах, которые тогда обсуждались достаточно постоянно и гласно. Не случайно Изгоев вспоминает одну из работ на эту тему В. Розанова (1990). Последний по этим вопросам успел сказать очень многое. Показательно, что, подчеркивая свой пиетет перед "замечательным писателем" (Розановым) и приводя его характеристику российского студенчества, Изгоев находит ее все же слишком идиллической.
-
3. Критика идеологии русской интеллигенции
В сборнике русской интеллигенции предъявляются различные обвинения; есть различия и в определении степени ее вины. Упрек Н. Бердяева – за непонимание самоценности истины и соответственно самостоятельного значения философского и всякого иного духовного опыта и за признание интеллигенцией "деспотического господства утилитарно-морального критерия" – был обоснован. В то же время, отлучая интеллигенцию от подлинной русской философской традиции, Бердяев признавал, что "в русской философии есть черты, роднящие ее с русской интеллигенцией, – жажда целостного миросозерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры" ( Бердяев , 1909). С. Франк же, делая, по его собственным словам, "логический скачок", заявлял, что "морализм русской интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее нигилизма" ( Франк , 1909). Интеллигентская "правда" тем самым осуждалась безоговорочно.
-
4. Заключение
В чем только не упрекали В.В. Розанова (причем с самых различных сторон): в беспринципности, юродстве, очернительстве, попрании идеалов, но недостатка критицизма за ним никогда не отмечалось. Однако на страницах "Вех" подобная претензия выглядит совершенно естественной. Розанов удивительно тонко чувствовал ценность противоречивого многообразия культурной и исторической жизни и, когда хотел, легко избегал односторонности в оценках. Общая же тенденция "Вех" требовала однозначных выводов; и созданный Розановым образ русского студенчества – "духовного казачества" – для этой цели никак не подходил.
Определенный "скачок" в своем критическом пафосе совершает и М. Гершензон, что особенно бросается в глаза на фоне предшествующей его выступлению статьи С. Булгакова. Последняя выдержана в духе классической проповеди, и автор, сравнивая вслед за Достоевским российскую интеллигенцию с евангельским бесноватым, указывает традиционный путь исцеления – путь смирения и веры. М. Гершензон также пишет о "болезни", об интеллигенции как о "кучке искалеченных душ", но в своих выводах еще более резок: духовно исцелять, оказывается, некого, в России "личностей не было", "интеллигенция была безлична, со всеми свойствами стада". Слишком поспешно сконструировав нечто вроде философии личности и историософии, Гершензон утверждал, что будь в России хоть горсть цельных людей с развитым сознанием, т.е. таких, в которых высокий строй мыслей органически претворен в личность, деспотизм был бы немыслим. Эта не утратившая и по сей день определенной популярности идея выглядит, по меньшей мере, странной. Тем более, что признанный знаток русской культуры (а Гершензон им, несомненно, был) в своей статье находит немало лестных слов для характеристики ее достижений и ее творцов.
Естественно, в рассуждениях веховцев о "горсти цельных людей" нет ничего метафизического, зато есть вполне очевидная связь с различными вариантами концепции "критически мыслящих личностей", которая была важным элементом критикуемой в "Вехах" идеологии радикальной российской интеллигенции. В том, что в "Вехах" идеологические мотивы явно преобладали над философскими размышлениями, нет ничего удивительного. Цели сборника и были преимущественно идеологическими. И, конечно, потребовался не один год, чтобы Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк смогли в полной мере определить собственные религиозно-философские воззрения.