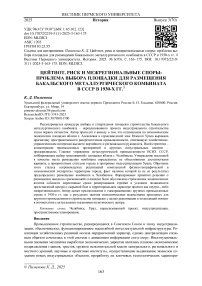Цейтнот, риск и межрегиональные споры: проблема выбора площадки для размещения Бакальского металлургического комбината в СССР в 1930-х годах
Автор: Пименова К.Д.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается процедура выбора и утверждения площадки строительства Бакальского металлургического комбината – нереализованного проекта индустриального строительства эпохи первых пятилеток. Автор приходит к выводу о том, что оптимальная по экономическим показателям площадка вблизи с. Алексеевка в горнозаводской зоне Южного Урала выражала прагматику пространственного рассредоточения промышленности, отвечавшую хозяйственно управленческим интересам высшего партийного и регионального руководств. Иной стратегии – концентрации промышленных предприятий в крупных индустриальных центрах – придерживалось Главное управление металлургической промышленности ВСНХ СССР, лоббировавшее выбор «рискованной» площадки вблизи г. Челябинска. Утверждение последней в качестве места размещения комбината определялось не объективными достоинствами варианта, а приоритетным статусом города в программе индустриализации Урала. Обретение этого статуса сопровождалось реализацией комплексной физико-географической и экономической экспертизы территории города, факт наличия которой (а не ее результаты) предопределил размещение комбината в Челябинске. Форсирование принятия решения о размещении завода на «рискованной» площадке было обусловлено стремлением экономических агентов соблюсти директивные сроки развертывания стройки в условиях подвижности представлений центра о сырьевой базе и территориальном характере проекта как внутри-, либо межрегионального. Автор делает предположение о «замораживании» крупных промышленных строек в 1930-е гг. как о результате занятия экономическими ведомствами пригодных для крупного промышленного строительства площадок с целью реактивации в подходящий момент в соответствии с актуальными указаниями политического центра.
Челябинск, Урал, нереализованный проект, индустриализация, пространственное планирование, Челябинск, Урал, нереализованный проект, индустриализация, пространственное планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147252191
IDR: 147252191 | УДК: 94(47)”1930”:[669.1: 65.012.123] | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-163-175
Текст научной статьи Цейтнот, риск и межрегиональные споры: проблема выбора площадки для размещения Бакальского металлургического комбината в СССР в 1930-х годах
Промышленное строительство, развернувшееся в Советском Союзе в эпоху индустриализации, обеспечивалось функционированием масштабной интеллектуальной инфраструктуры. Реализация хозяйственных решений носила иерархический характер, однако централизация сложным образом сочеталась в этой системе с движением информации снизу вверх . Институциональными звеньями механизма выработки экономических директив являлись планово-экономические подразделения главков, трестов, органов исполнительной власти центрального, регионального и местного уровней, научные и проектные институты, осуществлявшие выдвижение замыслов создания новых индустриальных объектов, проработку их ключевых технологических характери-
стик, обоснование необходимости реализации проектов, а также принимавшие участие в планировании размещения новостроек, их проектировании; справедливо подчеркивает М. А. Фельдман роль «хозяйственников» в выработке экономической стратегии СССР в эпоху индустриализации [ Фельдман , 2025, с. 360].
Индустриальные проекты представляются в этой связи социотехническими результатами согласования множественных, зачастую конфликтующих представлений об образе будущего объекта, возникающих в процессе технической экспертизы и реализации конкурирующих интересов [ Appel , Anand , Gupta , 2023, p. 12–13]. Итоги этого своеобразного согласования могли быть противоречивы. Е. Д. Твердюкова отмечает: «На практике проекты планов в течение всего предвоенного десятилетия в значительной степени представляли собой сумму заявок с мест, в два-три раза превышавших реальные возможности регионов, которые стремились получить возможно большую сумму вложений» [ Твердюкова , 2010, с. 414]. И, конечно, далеко не все из запланированного оказывалось претворено в жизнь: сегодня исследователям хорошо известно о консервации в 1930-х гг. целого ряда крупных строек. В частности, в довоенный период на Урале было приостановлено строительство завода химической аппаратуры в г. Свердловске, Бакальского и Орско-Халиловского металлургических комбинатов, паровозо-электровозо-вагоноремонтного завода в г. Каменске-Уральском, котлотурбинного комбината в г. Уфе, Камской ГЭС и многих других.
Изучение проектов, реализация которых оказалась отложена или не принесла ожидавшихся результатов, представляет особый интерес для изучения особенностей функционирования советской экономической системы. На материалах вопроса о пространственном размещении Бакальского металлургического комбината – одной из крупнейших нереализованных строек Урала эпохи индустриализации – мы реконструируем стратегии институциональных акторов, принимавших участие в реализации проекта, а также выявляем механизмы принятия и корректировки хозяйственных решений.
Название «Бакальский» происходит от наименования месторождений высококачественной железной руды близ поселка Бакал в горнозаводской зоне Южного Урала. Их разработка велась с середины XVIII в., но идея строительства крупного металлургического завода на базе бакальских руд возникла гораздо позже – на рубеже 1910–1920-х гг., в период проработки планов развития Урала на основе межрегионального промышленного комбинирования [ Бугров , Симонов , 2023]. В мае 1930 г. Постановлением ЦК ВКП(б) «О работе Уралмета» строительство Бакальского металлургического комбината – одного из трех новых гигантов черной металлургии на минеральном топливе (наряду с Магнитогорским и Ново-Тагильским) – было включено в план пятилетки (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 785. Л. 22–27).
Из названия проектируемого комбината следовало, что строиться он должен в районе рудного месторождения. Это соответствовало положениям социалистической экономгеографи-ческой теории, требовавшим размещать промышленность вблизи мест залегания сырья [ Меерович , 2010, с. 13] . Однако, помимо руды, для металлургического производства требуется также сырье иного типа: от Кузбасса – места добычи минерального кокса, необходимого для доменной плавки, – Урал был удален на расстояние порядка двух тысяч километров. Большой пробег кузбасского угля, загружавший железные дороги, заставлял искать технологические альтернативы: в 1929 г. положительный результат дали эксперименты по коксованию углей Кизела [ Баканов , 2012, с. 135]; продолжались эксперименты по подземной газификации челябинских углей, успех которых позволил бы перевести металлургическую плавку на искусственно получаемый из угля газ ( Уфимцев , 1934).
Однако разработанная в 1920-е гг. советскими экономистами теория пространственного размещения промышленности содержала и другие положения. Ею предполагалось в том числе, что размещение предприятий должно производиться в соответствии с необходимостью обеспечить максимально равномерное развитие территории страны. Не имевший современной, технологичной обрабатывающей промышленности район Бакала вполне удовлетворял этому критерию. Вместе с тем выбор выгодных в плане развития районов должен был осуществляться, исходя из возможностей осуществления промышленного кооперирования [ Меерович , 2010, с. 14].
Крупнейшим индустриальным узлом в районе Бакальского месторождения был Златоуст – окружной центр, уже располагавший, однако, собственным металлургическим заводом и имевший ограниченные возможности для дальнейшего промышленного роста в силу сложного рельефа [ Бугров , 2021].
Таким образом, перспективы появления нового металлургического комбината в районе Бакальского месторождения оказывались вовсе не такими однозначными. Совокупность таких факторов, как близость одного типа сырья (рудного) и удаленность другого (энергетического), отсутствие в районе месторождения подходящих по профилю потребителей, лимитировавшее перспективы достижимого в ближайшее время промышленного кооперирования, а также отсутствие подходящих по рельефу и размеру площадок в горнозаводской зоне Южного Урала ( Березов , 1931, с. 129) – все это делало вопрос размещения Бакальского комбината открытым для выдвижения вариантов.
Поиски площадки
К поискам площадки для строительства завода были привлечены власти прилегающих к месторождению районов [ Сысов , 2019, с. 75]. Весной 1930 г. специалисты Уральского филиала института «Гипромез», ответственного за проектирование Бакальского комбината, после проведения ряда предварительных обследований остановили выбор на площадке близ поселка Юрюзань в Катавском районе Златоустовского округа [ Сысов , 2018, с. 229]. Исторически эта местность представляла собой район древесноугольной металлургии на рудах Бакала и Сатки, где развивалось вагоностроение, производство строительных материалов и др. Златоустовское руководство связывало перспективы строительства на территории округа Бакальского комбината-гиганта с возможностью преодоления периферийного хозяйственного статуса, поскольку вблизи будущего завода ожидалось появление крупных потребителей его продукции – новых шарикоподшипникового, автомобильного заводов, завода бурового оборудования и др. ( Фрадкин , 1934 а , с. 43; ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 1. Д. 851. Л. 19).
Областные власти оказали поддержку решению генпроектировщика, в пространственнопланировочном отношении означавшему создание в горнозаводской зоне Южного Урала нового промышленного узла в составе крупного металлургического комбината, энерго- и металлоемких потребителей его продукции, специализированных на общем машиностроении. Осенью 1930 г. Уральский областной совет народного хозяйства включил Бакальский металлургический завод в качестве основного строительства Катавского района в контрольные цифры 1931 г. (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2852. Л. 203). В отдаленной перспективе это решение способствовало выравниванию хозяйственного статуса районов Южного Урала, неоспоримое лидерство среди которых принадлежало на тот момент Челябинскому: к началу 1930-х гг. отстоящий более чем на 200 км к западу от Бакальского месторождения (и находящийся, соответственно, на 200 км ближе к месту добычи металлургического топлива) Челябинск превратился в индустриального «супертяжеловеса» с собственной районной электростанцией, строящимися тракторным и электрометаллургическим заводами-гигантами и десятком других крупных промышленных предприятий. С точки зрения руководителей Уральской области катавско-юрюзанский узел энергоемких производств с появлением Бакальского комбината и заводов-потребителей оказался бы по своему значению равновесным челябинскому, что неизбежно поколебало бы хозяйственно-политическое лидерство последнего.
Одновременно с проектированием Бакальского комбината по другую сторону уралобашкирской границы продолжалось обследование месторождений высококачественной железной руды в районе Зигазы – Комарово. До тех пор пока их запасы оценивались в размере 4 млн тонн, предполагалось, что зигазинские руды переплавит будущий Бакальский завод. Однако, когда новая оценка запасов месторождения достигла 75 млн тонн (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 59) и оказалась сравнима с самостоятельной рудной базой крупного металлургического завода (Завенягин, 1931), проекты индустриальной модернизации Уральской области и Башкирской АССР превратились в антагонистические. Башкирским хозяйственникам удалось развернуть широкую кампанию по продвижению идеи переноса строительства Бакальского комбината на территорию Башкирской АССР, в район Зигазы – Комарово (Не в Бакалах…, 1931; Траутман, 1932). И если в расчетах Уралгипромеза проект нового завода представлялся проектом добычи и передела руд в пределах Уральской области, то с разведкой новых железорудных ресурсов на территории Башкирии представление Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР о будущем заводе приобрело иное, межрегиональное измерение. Осенью 1930 г. правление треста «Новосталь» перепоручило проектирование Бакальского комбината Ленинградскому отделению института «Гипромез» [Сысов, 2018, с. 231]. Представляется, что решение о смене генпроектировщика было вызвано сложившейся ситуацией конфликта интересов и заинтересованностью руководства «Новостали» в беспристрастной экспертизе башкирского и уральского вариантов размещения будущего комбината.
Выбор Ленгипромезом нового пункта размещения Бакальского металлургического гиганта определялся необходимостью соблюсти сроки, зафиксированные в постановлении «О работе Уралмета» и намечавшие развертывание работ на стройплощадке Бакальского комбината на начало 1932 г. Поскольку Комарово-Зигазинское месторождение не имело связи с общесоюзной железнодорожной сетью, строительство комбината по башкирскому варианту неминуемо задерживалось бы на период постройки железнодорожной линии Магнитогорск – Уфа (или по меньшей мере ее участка длиной 150 км от Магнитогорска до Зигазы – Комарово). Поэтому исходным положением проекта Ленгипромеза стало размещение завода на объединенной рудной базе Урала и Башкирии по уральскому варианту, в одном из пунктов на железнодорожной линии, соединяющей Кузбасс и Магнитогорск. Поскольку магистраль была и без того чрезвычайно загружена, в основу проекта были положены транспортные соображения, связанные с уменьшением пробега по железной дороге порожних вагонов (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2850. Л. 261; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 4). Согласно разработанной специалистами Ленгипро-меза транспортной схеме, следующие из Кузбасса составы с углем после разгрузки в Магнитогорске должны были преодолевать по будущей линии Магнитогорск – Уфа еще 150 км в западном направлении до башкирских месторождений и, следуя обратно в Сибирь, перевозить руду на будущий Бакальский завод (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 3243. Л. 61 об.). В рамках этой логистической схемы целесообразным являлось размещение комбината в Челябинске – ближайшем к месторождению транзитном пункте на линии Кузбасс – Магнитогорск. Об этом, несмотря на продолжающиеся обследования более чем десятка площадок на территории как Урала, так и Башкирии, генпроектировщик прямо заявил в марте 1931 г. в письме в Челябинский горсовет (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2850. Л. 318–320).
Расчеты Ленгипромеза принципиально расходились с соображениями уральских руководителей, хорошо осведомленных о серьезном лимитирующем факторе дальнейшего роста Челябинского промышленного узла – напряженном водном балансе реки Миасс, являвшейся единственным источником воды как для технических нужд предприятий города, так и для городского водопровода. Поэтому для представителей Уральского областного исполнительного комитета известие о получении Челябинским горсоветом обнадеживающего письма из Ленги-промеза стало неожиданностью. С одной стороны, уральским руководителям нужно было представить материалы, которые заставили бы проектирующую организацию усомниться в целесообразности размещения завода в Челябинске, а с другой – ни в коем случае не ставить под сомнение необходимость строительства Бакальского комбината на Урале, а не в Башкирии. Облисполком взял время для консультаций, чем вызвал недовольство Ленгипромеза, вновь и вновь требовавшего ускорить отправку необходимых материалов (Там же. Л. 322, 324, 327). Между тем, в феврале 1931 г. на высшем уровне было принято решение о постройке в Башкирской АССР самостоятельного Комарово-Зигазинского завода (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 60. Л. 4–5), что сделало перспективы строительства Бакальского комбината туманными. Ошибка была чревата для уральцев утратой проекта и связанных с ним внушительных инвестиций.
Заключение о нежелательности постройки Бакальского комбината в Челябинске представила Уральская областная плановая комиссия. Положение с водой в городе характеризовалось в тексте документа как критическое даже в отсутствие нового крупного строительства. Челябинские площадки комиссия предлагала рассматривать только в том случае, если выяснится абсо- лютная непригодность вариантов размещения завода вблизи рудного месторождения (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2850. Л. 323). Категоричность позиции плановиков подкреплялась предварительными результатами проработки перспектив развития Челябинского промышленного узла на областном уровне (Налетов, 1932, с. 37), а также выводами Госплана СССР, по тем же мотивам настаивавшего на недопустимости постройки Бакальского комбината в Челябинске (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 3241. Л. 6 об.). Желая любыми средствами удержать строительство Бакальского комбината в своих руках, Уралоблисполком все же направил в Ленгипромез записку челябинского горплана, приветствовавшую инициативу генпроектировщика и содержащую характеристику площадок в окрестностях города. Тем не менее председатель Уралоблис-полкома М. К. Ошвинцев в сопроводительном письме выразил надежду на то, что проектировщики все же направят на Урал авторитетную комиссию, которая сумеет подыскать место в районе месторождения (ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2850. Л. 315).
Действительно, объединенная комиссия треста «Востокосталь», которому осенью 1930 г. было перепоручено строительство Бакальского комбината, и института «Гипромез» , весной – летом 1931 г. продолжила выездные обследования. По их результатам пригодными для размещения Бакальского комбината были признаны две площадки: первая – на берегу реки Ай вблизи месторождения рядом с деревней Алексеевка, вторая – в 10 км к северу от Челябинска на берегу реки Миасс.
Ай или Миасс
По ряду ключевых показателей расположенная на урало-башкирской границе айская площадка превосходила челябинскую. Во-первых, важным преимуществом Челябинска признавалось его транзитное положение крупного железнодорожного узла. Однако развитие транспортной инфраструктуры города не поспевало за его индустриальным ростом: к началу 1930-х гг. узел, обслуживавший нужды крупных промышленных строек Челябинска, был серьезно перегружен и нуждался в расширении. Готовый на момент разрешения вопроса о размещении Бакальского комбината проект реконструкции узла, по оценкам участников заседания технического совета группы комплексных проблем Госплана СССР (декабрь 1931 г.), не был рассчитан на пропуск грузов еще одного гигантского комбината (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 77). В то же время всего в нескольких километрах от Алексеевки находилась железнодорожная станция Кукшик, имевшая в восточном направлении выход на станцию Бердяуш – место пересечения транспортных потоков в направлении Свердловска и Челябинска, где действовали и строились будущие основные потребители продукции Бакальского завода – Первоуральский трубный, Челябинский тракторный заводы и др. ( Фрадкин , 1934 b , с. 3). Айскую площадку от Бакальского месторождения отделяло немногим более 20 км, что создавало условия для организации рудных перевозок внутризаводским электротранспортом по прямой железнодорожной ветке. Организация ее строительства позволяла в перспективе сэкономить на оплате железнодорожных тарифов и избежать нагрузки на основные транспортные магистрали (ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 1. Д. 860. Л. 13–14).
Во-вторых, особую остроту для Челябинска имела вышеупомянутая проблема дефицита воды. Чтобы обеспечить ею челябинскую стройку, требовалось поднять плотину озера Аргази (на тот момент – единственного регулятора стока реки Миасс) и осуществить постройку каскада новых водохранилищ выше Челябинска – на реке Караси, у села Харлуши, а также на юге города близ села Шершни (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 42). Однако, как подчеркивал авторитетный советский гидролог И. И. Урбан, привлеченный к изысканиям по проекту Бакаль-ского комбината, даже при условии создания дорогостоящих гидротехнических сооружений, нужды потребителей обеспечивались бы на пределе, с невозможностью получения запаса воды на случай жаркого лета. Согласно оценкам ученого, в засушливые годы приходилось бы выводить из строя агрегаты Челябинской ГРЭС. Неизбежным следствием отключений должны были стать перебои в энергоснабжении крупных промышленных потребителей Свердловского и Челябинского районов, угрожавшие выполнению производственной программы Урала. Водный баланс Бакальского завода на челябинской площадке в целом оказался бы подчинен режиму работы
ГРЭС, отбросной водой с которой должен был питаться будущий завод (Там же. Л. 44). Конечно, и в Алексеевке, находящейся на берегу полноводной реки Ай, разрешение водного вопроса несколько осложнялось высотой площадки над уровнем реки, однако оно все же не требовало столь дорогостоящих работ, как в Челябинске (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 60. Л. 36–38).
В-третьих, поскольку Бакальский завод должен был стать крупнейшим потребителем электроэнергии, особую важность приобретал вопрос энергообеспеченности строительства. Однако и он разрешался в пользу района реки Ай, высота берегов которой позволяла, согласно заключениям специалистов Уралгипромеза, осуществить строительство мощной районной гидроэлектростанции. Предполагалось, что Бакальская ГЭС сможет обеспечить дешевой электроэнергией не только будущий металлургический завод, но и других крупных промышленных потребителей района, разгрузив Челябинскую ГРЭС (ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 1. Д. 860. Л. 27–28). В то же время, согласно наметкам Энергоцентра, в Челябинске было запроектировано строительство новых тепловых ГРЭС № 2 (южнее Челябинска, у поселка Шершни) и ГРЭС № 3 (севернее Челябинска у поселка Ильинского). Возведение двух электростанций с суммарной мощностью более 1,2 млн киловатт в разы увеличивало энерговооруженность Челябинского района и вместе с тем предъявляло необходимость в постройке водохранилищ на реке Миасс. Это значило, что создание водосборных сооружений, смягчающее остроту водной проблемы Челябинска, не зависело от того, появится ли в городе новый крупный металлургический завод (ГАСО. Ф. Р-296. Оп. 2. Д. 141. Л. 12). Строительство Челябинской ГРЭС № 2 было начато в 1931 г. (На стройку ЧГРЭС № 2…, 1931). Таким образом, Бакальская ГЭС была лишь гипотезой, тогда как постройка Челябинских ГРЭС № 2 и 3 обрела статус плана. Дополнительным энергетическим «козырем» челябинской площадки было угольное изобилие. Челябинский энергетический уголь слабо подвергался коксованию, поэтому не мог использоваться для доменной плавки. Однако предполагалось, что возможно подвергать его подземной газификации на запроектированном в городе углехимическом комбинате и передавать полученный газ на Бакальский завод по трубопроводу (ГАСО. Ф. Р-296. Оп. 2. Д. 141. Л. 88). Эта заманчивая, но сложная в реализации идея получения химических продуктов переработки угля потенциально «привязывала» будущий завод к челябинским угольным копям, поскольку ни перевозка самовозгораемого энергетического угля в район месторождения в том количестве, в котором его требовало производство на гигантском металлургическом заводе, ни постройка газопровода в район Алексеевки в условиях продолжающихся опытов по газификации челябинского угля не признавались выступавшими на заседании в Госплане экономистом и инженером проекта Бакальского комбината возможными (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 30).
Еще одним критерием, по которому нельзя было однозначно определить преимущество одной из площадок перед другой, была геология. Подземное строение района реки Ай характеризовалось залеганием известняков, опасных образованием карстовых пустот и провалов. При этом геологические изыскания, как подтверждающие, так и опровергающие опасность айских карстов для крупного строительства, прежде никогда не производились (Там же. Л. 27, 49–52). С учетом же прочих достоинств алексеевского варианта (надежные водные и транспортноэкономические показатели, энергетическая гипотеза, подходящие ландшафт и площадь местности) комиссия Ленгипромеза под председательством будущего начальника Бакалстальстроя М. А. Жарикова остановила первоначально выбор именно на нем, подразумевая, что геологические обследования будут организованы позднее, после окончательного утверждения площадки (Там же. Л. 25–26).
Но, как мы видели, согласно директивам, строительство Бакальского завода должно было развернуться уже в начале 1932 г. (Задачи культурного строительства…, 1931, с. 1). Дополнительные же геологические обследования в районе Алексеевки рисковали задержать начало строительства на месяцы, на что указывал в декабре 1931 г. председатель технического совета при Госплане (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 83–84). В то же время территория Челябинска была детально изучена геологами, гидрологами, транспортниками, экономистами и прочими экспертами. Хорошо было известно, что геология предлагаемой площадки близ села Першино представлена подходящими для размещения крупного строительства гранитами (Там же.
Л. 53); в рамках проблемы водного дефицита была готова авторитетная экспертиза, предлагавшая строительство гидротехнических сооружений для зарегулирования стока реки Миасс; энергетическая проблема решалась в гипотезе успехами экспериментов по газификации челябинского угля и строительством двух новых мощных электростанций. Даже самые неутешительные выводы экспертов при определенной технооптимистичной интерпретации приобретали позитивную окраску, поскольку представляли проблему размещения завода на челябинской площадке принципиально разрешимой.
В конце ноября – начале декабря 1931 г. институт «Гипромез» и трест «Востокосталь» достигли соглашения о пересмотре прежнего решения и выборе Челябинска в качестве места развертывания строительства Бакальского комбината («Бакальский» завод…, 1931). Подчеркнем, что этот консенсус оказался возможен в результате обеспеченности челябинской площадки комплексной физико-географической и экономической экспертизой, являвшейся необходимым условием промышленного роста города в середине 1920-х – начале 1930-х гг., и объяснялся не столько исключительными характеристиками избранной площадки, сколько беспрецедентным статусом Челябинска в программе индустриализации Урала и стремлением экономических агентов (главка и треста) развернуть строительство Бакальского комбината в обозначенный директивами срок.
Утверждение площадки: «оптимальный» вариант против «многообещающего»
Перемена первоначального решения о размещении завода в пользу Челябинска должна была получить утверждение технического совета группы комплексных проблем Госплана СССР, заседание которого состоялось 15 декабря 1931 г. Выступления представителей « Восто-костали » и Ленгипромеза изобиловали планами создания в Челябинске новых промышленных предприятий, связанных с Бакальским комбинатом по линии обслуживания или потребления его продукции. Среди них – углехимический комбинат, городская теплоэлектроцентраль, челябинские районные электростанции № 2 и 3, шарикоподшипниковый завод, мыслившийся одним из главных потребителей продукции будущего комбината, и др. (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 53, 63, 78–81). Многочисленные упоминания грандиозных проектов грядущего промышленного строительства должны были подчеркнуть уникальность условий города в качестве места возведения гиганта качественной металлургии. Однако участники заседания все же указывали на риски, с которыми это решение было сопряжено: инженер проекта Куландин высказывал опасения о том, что «Энергоцентр окажется не в состоянии построить» ГРЭС № 2 (Там же. Л. 29); участник заседания Семенов делился сведениями о переносе Энергоцентром строительства ГРЭС № 2 на более поздний срок и отказе от идеи строительства ГРЭС № 3 (Там же. Л. 53, 75); большое внимание И. И. Урбан уделил разъяснению ограниченной результативности мероприятий по строительству водохранилищ на реке Миасс (Там же. Л. 39–47); прочие выступающие указывали на сомнительные результаты экспериментов по газификации челябинских углей (Там же. Л. 4, 12) и т.д. Пытаясь развеять сомнения в блестящих перспективах задуманных проектов, председатель заседания Колесников восклицал: «Зачем же вызывать призраки, которых можно испугаться, зачем же уходить в область мистики?» (Там же. Л. 81–82). Колесников оказался удивительно меток: ни одна из задуманных в Челябинске крупных ГРЭС, ни завод шарикоподшипников, ни углехимический комбинат так и не были построены. Строительство ТЭЦ № 1, развернутое в середине 1930-х гг., не принесло осязаемых результатов в довоенный период и завершилось лишь в 1942–1943 гг. [ Золотов , 2001]. Технология же получения газообразного топлива из угля не была реализована даже в полупромышленном масштабе [ Седых , 2008, с. 73]. Очевидно при этом, что «призрачная» природа перечисляемых проектов «схватывалась» современниками на уровне дискурса.
Присутствовавшие на заседании члены технического совета, имевшие ограниченную область экспертизы, были дезориентированы: часть из них признавала собственную некомпетентность в вопросах водоснабжения (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 334. Л. 90), другая была сбита с толку противоречивыми сведениями о планах Энергоцентра; кроме того, никто из собравшихся не владел актуальной информацией о результатах экспериментов по газификации челябинского угля и данными обследования геологии айской площадки, ранее признававшейся оптимальной по прочим показателям (Там же. Л. 71–72). Тем не менее под давлением сжатых сроков принятия решения в интересах скорейшего развертывания строительства члены техсовета были вынуждены голосовать по вопросу о рекомендации ВСНХ осуществить перенос строительства Бакальского комбината в Челябинск. О замешательстве в рядах членов техсовета, вынужденных принимать решение в условиях нехватки информации, свидетельствует факт повторного голосования. При первом голосовании из 26 членов совета 13 человек воздержалось, а еще трое проголосовали против, что вызвало нескрываемое недовольство председателя (Там же. Л. 90– 92). Принятая со второй попытки большинством голосов резолюция превращала стройку в рискованное предприятие, успех которого мог быть обеспечен лишь в результате последовательной реализации ряда трудноосуществимых условий: освоения технологии подземной газификации челябинского угля, сооружения каскада гидротехнических сооружений для зарегулирования стока реки Миасс, строительства по меньшей мере одной крупнейшей ГРЭС и др. Таким образом, спешка, связанная со стремлением экономических агентов соблюсти директивные сроки развертывания стройки, привела к тому, что предпочтение было отдано не оптимальной, а наиболее изученной и многообещающей, хотя и «рискованной» площадке.
Стоит отметить, что сроки развертывания строительства Бакальского комбината в начале 1932 г., обозначенные в постановлении ЦК ВКП(б) «О работе Уралмета», трудно назвать волюнтаристскими. Реальной же причиной фиксируемой в документах спешки в определении площадки будущей стройки следует считать подвижность в течение длительного времени представлений центра о сырьевой базе и пространственном характере будущего предприятия.
Процедура обоснования целесообразности размещения завода на «рискованной» челябинской площадке завершилась лишь в феврале 1932 г., когда местность в 10 км к северу от города была окончательно утверждена местом постройки Бакальского металлургического комбината (Площадка Бакальского завода…, 1932). Однако стройка, развернутая весной 1932 г., была приостановлена летом 1935 г. (РГАЭ. Ф. 4086. Оп. 2. Д. 1437. Л. 6).
Реактивация проекта и поиски новой площадки
В конце 1930-х гг. советское руководство вернулось к идее строительства Бакальского комбината. Стройка вошла в план третьей пятилетки, и постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1490 от 17 августа 1940 г. Народному комиссариату черной металлургии было предписано приступить к строительству уже в 1941 г. Местом постройки завода документ намечал район Сатки, что, как и в начале 1930-х гг., означало ориентацию центра на размещение Ба-кальского комбината в районе рудного месторождения. Однако вместе с тем окончательно вопрос о месте постройки предприятия вновь не был разрешен: Совету народных комиссаров Башкирской АССР и Челябинскому облисполкому предписывалось оказать поддержку в работе выездной комиссии по выбору площадки [Время. Люди. Сталь, 2013, с. 24–25]. Начался очередной тур выдвижения конкурирующих вариантов.
Процедура определения места постройки Бакальского комбината в 1940 г. в точности повторила историю начала 1930-х гг.: выдвинутая башкирским руководством площадка у села Мурсалимкино была отвергнута по той же причине, что и восемью годами ранее соседствующая с ней Алексеевская, – ввиду отсутствия геологических изысканий при поверхностном наблюдении карстов (РГА в г. Самаре. Ф. Р-150. Оп. 4-6. Д. 29. Л. 11 об.). Площадка у села Тундуш, выдвинутая златоустовским окружным руководством для размещения Бакальского комбината еще в начале 1930-х гг., как и прежде, была отвергнута в связи с естественными ограничениями по площади (ОГАЧО. Ф. Р-1284. Оп. 6. Д. 2. Л. 1). Весомым же преимуществом Першинской площадки в Челябинске, выдвинутой южноуральским руководством, был задел, выраженный главным образом результатами проектно-изыскательских работ начала 1930-х гг. (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 711. Л. 35). При этом проектировщикам вновь пришлось руководствоваться директивными сроками развертывания стройки, менее либеральными, в отличие от первой попытки построить комбинат. Участник технического совещания при директоре Гипромеза Филиппов замечал в январе 1941 г.: «Если Першинский вариант имеет все предпосылки к тому, что- бы выдержать правительственные сроки, то Тундушский, можно сказать, совершенно определенно в эти сроки не уложится… Мурсалимкинский вариант тоже внушает большие опасения в смысле выдерживания сроков…» (РГА в г. Самаре. Ф. Р-150. Оп. 4-6. Д. 29. Л. 78 об.).
Вопрос размещения завода на челябинской площадке вновь натыкался на водную проблему, серьезность которой к началу 1940-х гг. перестала недооцениваться: в результате засухи 1935–1936 гг. озеро Аргази обмелело до критического уровня, и крупные промышленные потребители Челябинска, включая главнейший – районную электростанцию, – оказались в ситуации крайнего дефицита воды. Чтобы подать воду в город, решено было спустить в реку Миасс воду из озер Тургояк, Большое и Малое Миассово и других ближайших водоемов [ Хакимов , 2021, c. 24–26]. Экологический фактор придал задаче подъема Аргазинской плотины неизбежный характер, что позволило в феврале 1941 г. вновь утвердить площадку около г. Челябинска местом постройки Бакальского комбината2 (ОГАЧО. Ф. Р-1284. Оп. 6. Д. 2. Л. 1). И хотя крупных успехов на стройке завода до войны добиться так и не удалось, Челябинский металлургический завод, построенный на Першинской площадке, все же дал первую плавку в 1943 г.
Феномен возобновления законсервированных строек во второй половине 1930-х гг., а также прагматику «рискованного» поведения главка несколько проясняет решение заседания исполнительного комитета Сосновского райсовета от 13 апреля 1941 г., копия которого хранится в архиве музея Челябинского металлургического комбината – прямого индустриального «наследника» Бакалстальстроя 1930-х гг. В документе отмечается, что земельный участок законсервированной стройки был наделен особым правовым статусом земель промышленности. Это означает, что с 1932 г. главк располагал земельным участком площадью 4122 гектара, изъятым из сельскохозяйственного освоения и городского строительства и переведенным в категорию земель спецназначения (Музей Челябинского металлургического комбината, л. 46). Можно предполагать в этой связи, что стремление главка разместить Бакальский комбинат вблизи Челябинска было в определенной мере связано с желанием занять удобную площадку для крупного промышленного строительства. Дождавшись, когда риски будут естественным образом устранены за счет других заинтересованных агентов (например, Энергоцентра), главк мог в любой момент задействовать участок в соответствии с актуальными указаниями правительства, что и было осуществлено в период эвакуации. Этим объясняется не только принятие решения о возобновлении строительства Бакальского комбината на прежней площадке, но и сохранение за проектом первоначально предполагавшегося индустриального профиля.
Заключение
Варианты размещения Бакальского комбината, обсуждавшиеся в 1930-е гг., отразили различные формы хозяйственной и политической рациональности акторов, вовлеченных в процесс выбора площадки для строительства завода. Центральные и региональные руководящие органы желали видеть Бакальский комбинат построенным вблизи рудного месторождения, что соответствовало стратегии выравнивания уровня экономического развития территорий и позволяло наделить последние конкретной производственной специализацией, становившейся в историческом контексте 1930-х гг. основой для утверждения нового административнотерриториального деления [ Бугров , Симонов , 2023]. Эти акторы были заинтересованы в выборе оптимальной площадки и желали избежать рисков, связанных с воздействием лимитирующих факторов различных вариантов размещения комбината на судьбу проекта.
Пространственная стратегия Главного управления металлургической промышленности ВСНХ СССР выражалась в стремлении разместить стройку в районе крупного индустриального центра, что отвечало также интересам местных администраторов, приветствовавших инициативы экономических агентов. Однако за стремлением главка разместить стройку в районе крупного города крылось, по-видимому, желание не только соблюсти директивные сроки ее развертывания за счет уменьшения временных затрат на производство исследовательских работ, но и разрешить множество вопросов инфраструктурного порядка. Как показал к тому моменту опыт магнитогорского строительства, соединить новое предприятие с инфраструктурой крупного города оказалось несоизмеримо проще, чем строить гигантский завод «в чистом по- ле» [Kotkin, 1995, p. 72], каковым на поверку оказывались алексеевский, мурсалимкинский и прочие варианты в районе рудного месторождения. Размещение стройки в Челябинске увеличивало шансы реализации проекта в условиях ограниченности ресурсов и невозможности влиять на принятие решений о совершении инвестиций.
Различия в пространственно-планировочной прагматике акторов являются в том числе различиями в понимании ими рисков, с которыми сопряжена реализация крупных строительных проектов: высшие партийные и региональные власти видели опасность в лимитирующих факторах площадок, в то время как для экономических агентов рискованным оказывался инфраструктурный «остракизм».
Проектировщики из института «Гипромез» были озабочены транспортными мотивами в разрезе всего Урало-Кузбасского комбината. Однако мнение генпроектировщика имело ограниченное влияние на определение ключевых констант проекта будущего завода, таких, в частности, как выбор сырьевой базы, от которой зависела технология плавки, объемы производимой продукции и круг ее потребителей. Ответы на все эти вопросы были определены центром в 1930 г. политически, и Гипромез был готов работать с любой площадкой.
Общим же правилом при размещении Бакальского комбината и в начале 1930-х, и в начале 1940-х гг. была возможность удовлетворить сроки развертывания строительства, в результате чего выбор делался в пользу площадки, лучше всего обеспеченной результатами профильных экспертиз (даже если те не были положительными). Недостатка в них не испытывали крупные города с выраженным приоритетным статусом в программе индустриализации. Удостоверяющие этот статус строительные замыслы обладали реальностью, позволявшей им оказывать осязаемое влияние на принятие важных экономических решений. Таким образом, реальная практика пространственного размещения промышленных предприятий в 1930-е гг. всерьез расходилась с положениями социалистической экономгеографической теории. Она определялась стратегиями конкретных институциональных акторов советской экономической системы, их представлениями о рисках в контексте жесткой иерархии, требовавшей реализации директив центра, повлиять на которые эти акторы не могли.